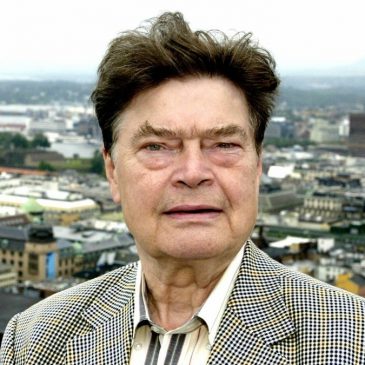В издательстве «ПоРог» вышла книга Бориса Панкина «По обе стороны медали», включившая эссе и заметки разных лет об искусстве и политике. «Textura» представляет избранные главы из книги. В первой части – воспоминания о политиках и государственных деятелях, встречах с Хрущёвым, Брежневым, Андроповым, Ельциным. Во второй (ниже) – послесловие к дневникам Алексея Кондратовича (1920 – 1984), заместителя главного редактора журнала «Новый мир» при Твардовском, о житье-бытье советских изданий и о дружбе с Юрием Трифоновым.
Из книги «По обе стороны медали». Часть II
«НОВЫЙ МИР» И ДРУГИЕ
Послесловие к новомировским «Дневникам» Алексея Кондратовича, заместителя главного редактора (Твардовского) журнала. 2011
Звонила журналистка Лидия Графова из «Комсомолки». Жалуется и гордится:
– Работать стало трудно. Теперь мы сравнялись с вами в ошибках.
Я ответил:
– Пожалуй, ещё не сравнялись. До нас далеко.
Эти строки читатель найдёт в «Дневниках» Алексея Ивановича Кондратовича за 1967 год. 6 июля.
И, не будь этой записи, я, быть может, и не смог бы принять заманчивое предложение составителей и издателей этой книги написать к ней послесловие.
Да и не послесловие это, в котором после исчерпывающего предисловия Андрея Туркова просто нет нужды, а всего лишь несколько личных впечатлений от уникальной работы, которая, наконец-то, спустя сорок лет, стараниями взыскующих истины людей в полном объёме выходит к читателю. Личные впечатления, навеянные невольной причастностью к событиям и личностям, упомянутым в «Дневниках».

Алексея Ивановича уже давно нет с нами. А Лида Графова, слава богу, жива, здорова и с прежней силой привержена духу свободы, гуманизма, справедливости… Сегодня она известная в стране и за её пределами журналистка, видная общественная деятельница, которая стоит во главе всероссийской общественной организации оппозиционной направленности, заботящейся о поддержке миллионов граждан бывшего СССР, чей гражданский статус пострадал в результате распада страны. И это означает, что звонок её Кондратовичу 6 июля 1967 года не был случайностью.
Речь же у них шла о публикации в «Комсомольской правде», коей я в ту пору имел честь быть главным редактором, статьи двух правдистов (подзабытый уже термин), Лена Карпинского и Фёдора Бурлацкого, «На пути к премьере».
К тому, что случилось с этой статьей и со всеми причастными к её появлению в печати, Кондратович возвращается ещё не раз.
«На отдалении времени, – записывает он спустя несколько лет, – этот эпизод идеологической жизни может показаться ерундовым, мелким. В “Комсомольской правде” появилась статья о театре. Никакого якобинства в ней не было. Авторы статьи, кстати, достаточно умеренные люди…
И вот они сочинили некую статью, в которой попытались сказать, что отдельным театрам и некоторым постановкам вредит неквалифицированное вмешательство, чрезмерная опека и администрирование… А эпизод был такой, о котором говорили всё лето 67 года. Взрыв, Карпинского сняли, Бурлацкого тоже, слухи утверждали, что снят и завотделом литературы Щербаков… полетел и главный редактор Панкин. В общем, шум невероятнейший.
Я рассказал А.Т. о снятии Карпинского и Бурлацкого.
А.Т. спросил, о чём у них были статьи. Потом:
– Как у нас хотят, чтобы люди не думали. Не думали. Как будто это возможно.
Что касается содержания статьи, то, как отмечает Кондратович, руководство страны (а в дело действительно вовлеклись и Фурцева, тогда министр Культуры, и Суслов, и Брежнев, которых представлять не надо) увидело в ней ни больше ни меньше – покушение на священное право партии, провозглашённое ещё Лениным, руководить – читай, командовать – литературой и искусством. Смертельный грех.
Что касается обрушившихся кар, то они отражали дух наступившего времени Брежнева, с его нелюбовью к крайностям. Из «Правды» Карпинского и Бурлацкого убрали. Но первого отправили при этом в «Известия», а второго во Всесоюзный институт социологии (ИКСИ АН СССР), созданный и руководимый академиком Алексеем Матвеичевым Румянцевым, который годом раньше и сам пострадал, будучи уволен с поста главного редактора «Правды» за написанную им статью – опять же, о положении в литературе. Под доброй рукой Румянцева институт превращался в отстойник для проштрафившихся идеологически.
Щербаков был освобождён от должности редактора отдела литературы, но назначен на вновь созданную должность обозревателя «Комсомолки», равноценную той, что обрёл в «Известиях» Карпинский.
Панкину, то есть автору этих строк, в последнюю минуту, благодаря манёврам тогдашнего главы отдела пропаганды ЦК КПСС Яковлева (А.Н., как его стали звать в эпоху перестройки), увольнение заменили строгим выговором.
Стоит уточнить и то, как попала статья в «Комсомолку». На самом деле Лен её принёс к нам после того, как её отвергли сначала в «Правде», потом в «Литературке», где амбивалентный Чаковский сказал:
– Вот если бы сразу нам принеcли, тогда бы другое дело. А после отказа «Правды» не можем.
– Я показал её Панкину, она ему понравилась, и он её напечатал, – лаконично ответил на вопрос Лен Карпинский в одном из своих радиоинтервью в период перестройки, когда он стал одной из ключевых фигур происходящих перемен.
Меж тем, на заседании редколлегии трое из девяти её членов, в том числе и один из заместителей главного, высказались против публикации статьи.
Другими словами, то, что с высот знающего себе цену «Нового мира» выглядело нечаянным эпизодом, нам представлялось вызовом неким идеологическим догмам. Сдаётся, что власти именно так это и поняли.
В добавление к принятым мерам ЦК партии прислал нам ещё и «комиссара», Феликса Овчаренко, создав для него должность третьего заместителя главного редактора, курирующего литературу. Так была опробована «рокировочка», которую потом применили в «Новом мире». С участием того же Овчаренко, который в атмосфере «Шестого этажа» долго не продержался, но карьеру сделал. Скакнул аж в ЦК КПСС, где «курировал», вернее, отравлял жизнь именно «Новому миру», как пишет об этом Кондратович.
И тут я возвращаюсь к тому, с чего начал.
– Жалуется и гордится. – передал настроение Лиды Графовой Алексей Иванович!
Чем гордится? Да тем, что её «Комсомолка» «сравнялась» в данном случае с самим «Новым миром».
А на кого жалуется? На обидчиков газеты, надо полагать. И ей важно было, чтобы в «Новом мире» знали, что и нам нелегко. Таков был тогда распространённый настрой тех, кто с уважением относился к своей профессии.
Я же, прочитав Лидины строки, был растроган ими и пожалел, что только теперь узнал о её звонке.
И, как она, не без гордости констатирую, что в «Дневниках» есть и другие свидетельства пересечения путей «Нового мира» и «Комсомолки».
Кондратович, например, не без юмора рассказывает, как загуляли однажды («на полу лежат в стельку пьяные») два не чуждых редакции человека: битый-перебитый на идеологической почве Георгий Куницын, который, будучи членом редколлегии “Правды”, голосовал против увольнения авторов статьи “На пути к премьере”, за что был тоже наказан, и «Бараков, человек, предпринимавший на Кубани опасные и своевольные эксперименты в организации сельскохозяйственного производства. Его несколько раз поддерживала “Комсомолка”, но потом его всё же сломили, исключили из партии, и вот он появился в Москве. Оказывается, Бараков когда-то учился в одной школе с Куницыным, друзья. Друзья друзьями, но один исключён из партии, другой – крупный партийный функционер. И в обнимку на полу. Это случается нечасто. И мне это тоже очень понравилось».
О Баракове в «Комсомолке» писал Геннадий Лисичкин, автор «Нового мира».
О Куницыне, помогавшем по мере сил «Новому миру», Кондратович ещё рассказывает, как тот «в дачном цекистском посёлке сплясал в трусах на столе, я… понял, что он – белая ворона и в начальниках долго не проходит. Плясать на столе – за это, наверно, грузчика из ЦК уволят, а уж зам. зав. отделом… Я рассказал А.Т. об этом ухарстве Куницына, он долго хохотал и потом, лишь скажут что-нибудь о Куницыне, – сразу вспомнит: «Так он же плясал на столе». И всегда без какой-либо нотки осуждения, напротив, с приятельством: вот, мол, и там люди бывают…»

На закате «Нового мира», летом 69 года, я лежал со сломанной ногой в том самом травматологическом отделении ЦКБ, где в это время находился и Александр Трифонович. Именно в те недели, которым посвящено немало горьких страниц в «Дневниках», в журнале «Огонёк» появилось заушательское «Письмо одиннадцати», а в «Соц. индустрии», кажется, так называемое «Письмо рабочего», который тоже взялся учить своего великого современника, как руководить журналом. Новомировцы проводили свои экстренные совещания прямо у Твардовского в палате, а он как-то зашёл вместе с Расулом Гамзатовым ко мне в палату и просиял, увидев меня, лежащего в постели в окружении голубых книжечек «Нового мира» и корпящего над статьёй о «Пряслиных» Федора Абрамова. Когда статья была напечатана, он прислал мне письмо: «Я так рад за Абрамова, человека мало сказать талантливого, но честнейшего в своей любви к «истокам», к людям многострадальной северной деревни и терпящего всяческие ущемления и недооценку именно в силу этой честности».
Радость Твардовского будет понятной, если напомнить, что романы Фёдора Абрамова были одной из излюбленных мишеней публичных нападок на «Новый мир». И тут мне не обойтись без двух цитат, которые практически не нуждаются в комментариях. Одна из них предшествует публикации романа. Другая даёт представление о читательском восприятии этой акции «Нового мира»
Первая – из «Дневников».
«Разговаривал с Ф. Абрамовым. Говорят (Солженицын), что Абрамов был когда-то следователем. И вот из следователя получилось такое, что хоть веди на него самого следствие…
Федя начал мне в ответ говорить такое, что и на бумагу трудно переносить. Вот тебе и следователь.
…Часа три вели разговор с Ф. Абрамовым…
– Я уже тебе третий раз говорю, – сказал я ему, – ну, ответь, притворяешься ты или всерьёз думаешь, что роман в таком виде может быть напечатан.
– Может. Ничего в нём нет, – повторял он в десятый раз, и я уже стал сомневаться: а может быть, он в самом деле так думает? Но и это едва ли.
…Речь у нас шла о романе «Две зимы и три лета», спор шёл о главе, в которой впервые точно рассказывалось о том, как в деревне проходила подписка на заём, как бегали от уполномоченных и т.п. Мы – я во всяком случае – были уверены, что глава эта никак не пройдёт в цензуре. И это был тот случай, когда «непроходимый» кусок чудом проскочил. Я и сейчас не понимаю, как это случилось. Может, потому, что и цензура иногда уставала от нас».
Вторая выдержка – из читательского письма:
«Сейчас перечитываю в третий раз вашу статью «Живут Пряслины».
Да, Фёдор Абрамов пишет, не отступая от действительности. Когда читаешь его романы и повести, создаётся впечатление, как будто читаешь письма, дневники, так зримо представляется написанное, и веришь каждому слову.
И хотя описываемые события происходили на Севере России, а я жил в те годы на юге Киевской области, но, увы, жизнь в деревне происходила такая же.
Вспоминаются весенние дни, ещё вдосвита (на рассвете) крик, маты бригадиров по селу, их было шесть, где теперь один.
И ведь надо в колхоз идти (и шли, и работали), и надо держать свой огород в порядке, ведь это основа жизни, когда трудодень обходился в 150 грамм и 12 копеек деньгами.
Я в те годы работал учётчиком бригады, комсоргом колхоза. Заходишь в хату, пол (не в смысле того, по чему мы ходим в квартире, а место, где спят): голые доски, похрустывает соломка, голая лежанка и дети, просящие хоть кусочек хлеба.
И в это время требуешь – налог, заём.
А сколько их пряталось на чердаках, в кустах боярышника, идёт комиссия по займу, и бегущие и прячущиеся, как от фашистов…»
Автор этого письма, Павел Евтихиевич Лементарь, в тот момент, когда он его писал, работал уже на шахте, подземным машинистом. Он не искушён в тонкостях литературоведения, но сам, может быть, того не ведая, рисует удивительно точную временную и событийную раму, в которую, как картина, вписывается не только творчество Федора Абрамова, но и обстановка, в которой нёс свою вахту чести «Новый мир».
«А как легко, – продолжает рассуждать читатель, жилось героям книг, подобных «Кавалеру Золотой Звезды» С. Бабаевского.
А сейчас, думаете, нет бабаевских в литературе? Когда посмотришь на литературу, выпускаемую Донецким областным издательством, диву даёшься, не хватает только грифа – «фантастическая».
Описываются какие-то сусальные шахтёры, подземные кроты, которые хотят работать по 18 часов в сутки, выполнять на 500 процентов план-задание».
Павел Евтихиевич делится другими своими симпатиями и антипатиями, которые – в сопоставлении с «Дневниками» Кондратовича – с особым волнением читаются сегодня, спустя десятилетия после того, как были исписаны от руки эти пожелтевшие странички.
Он сообщает, что с удовольствием читает «Новый мир». «А вот «Юность» последнее время не читаю. Ушёл “катаевский дух” из журнала».
Цитирует сочувственно «Даниила Гранина, который правильно подметил: без бумажки человек – букашка, а с бумажкой человек».
А вот из двух В. Липатовых, того, что работал и писал об искусстве в «Комсомолке», и другого, автора «Деревенского детектива», мой корреспондент выбирает первого. Рассказы об «околоточном надзирателе» (его выражение) ему не нравятся.
И снова совпадение. В дневниках Алексея Кондратовича читаем о его беседе с Твардовским, из которой узнаём, что Александр Трифонович к позднему периоду творчества Виля Липатова относился не менее скептически, чем этот, «из забоя», поклонник Фёдора Абрамова.
Вот Кондратович переносит в дневник за 1969 год свой телефонный разговор ещё с одним куратором, только рангом выше Овчаренко, Беляевым:
«Он: – Мой вам также совет: не печатайте очерк Можаева “Дорога”.
Я: – Мы его уже сняли, хотя я опять не вижу никаких причин для снятия. Мы снимаем под нажимом, под давлением, чтобы как-то убыстрить прохождение номера. Вы не читали статью в “Комсомольской правде”, где описано такое, перед чем очерки Можаева бледнеют? Это печатается семимиллионным тиражом. У нас же всё запрещается. Можно только диву даваться.
Он: – Я “Комсомолку” не читал. Но читал Можаева. Это очернительский очерк».
Рассказы о непрерывном и драматическом хождении по мукам руководителя «Нового мира» и великого поэта – Твардовского – и его славной и верной своим высоким принципам когорты занимают львиную долю дневников Кондратовича. Великолепна галерея ближайших сотрудников журнала и его авторов – прозаиков, поэтов, литературных критиков, учёных, – составлявших красу и гордость мыслящей России. Чем больше препятствий стояло на пути их работ к читателю, тем значительнее был эффект их появления. А публикации первых же вещей Солженицына совершили переворот в сознании миллионов.
Что говорить, напечататься в «Новом мире» стремились все. Для одних, близких по духу, это было делом чести. Для других, в том числе и оппонентов, – престижным, как теперь бы сказали.
Но – много званых и мало избранных. Подход журнала, в первую очередь его главного редактора, был избирателен.
Критерием прежде всего был уровень художественности. Клановый, групповой, по принципу «наши и не наши», «те и не те», подход, которым как раз руководствовались недруги журнала, был чужд. И в этом отношении сегодняшнего читателя дневников ждет немало сюрпризов. Возьмём, скажем, молодых творцов «исповедальной прозы» или «эстрадной поэзии». В качестве советских «сердитых молодых людей» они должны были быть близки «Новому миру». И относились к нему, насколько помню, с заслуженным им пиететом. Но отнюдь не всё, что они предлагали журналу, шло с колёс или вообще принималось. Это касается и Андрея Вознесенского, и Евгения Евтушенко, и Василия Аксёнова, по поводу «Бочкотары» которого Александр Трифонович, согласно Кондратовичу, проходился очень круто в беседах с соратниками и которую отказался публиковать. Андрею Вознесенскому или Анатолию Гладилину доставалось ещё больше.
Сейчас, когда иные «знаковые авторы» так же безапелляционно восхваляются, как раньше огульно порицались, об этом трезвом, взвешенном подходе Мастера своевременно напоминают «Дневники» Кондратовича. Не менее важны в них и многочисленные отсылки к читателю-другу, который объявлялся во всех слоях населения, в том числе и среди людей, кому по долгу службы полагалось вроде бы дудеть в начальственную дудку, а они как могли поддерживали «Новый мир». Да и на своём, часто официальном месте старались творить правое дело. И это позволяет ещё раз вглядеться в атмосферу тех и последующих лет, без чего трудно разбираться и в дне сегодняшнем.
Мы видим, что мордуемый властями журнал как один из немногочисленных духовных центров противостояния идеологическому мракобесию был окружён многослойным кольцом друзей, единомышленников, союзников, пусть и не способных спасти его. Но и за этой чертой существовал сонм, не побоюсь этого определения, деятельных доброжелателей, вдумчивых читателей, поклонников, может быть и не всегда находивших возможность дать о себе знать. Дозвониться, образно говоря, до Твардовского, Лакшина или Кондратовича, как дозвонилась до него Лида Графова.
Суть и дух дневников самоотверженного новомировца никак не согласуются с получившей у нас ныне широкое хождение концепцией, согласно которой в постоттепельные, «застойные» времена общество в СССР состояло из монолитных рядов власти, из послушной массы населения, которую и сегодня не стесняются называть быдлом, и кучки диссидентов, к которым примыкали любители пошептаться на кухне, где, мол, только и звучала истина.
Нет, режим был настолько противоестественен, что не противостоять ему в той или иной форме было просто невозможно, как невозможно не пытаться дышать даже в самой отравленной атмосфере. Даже в рядах цензуры, рассказывает Кондратович, находились люди, в той или иной форме сопротивлявшиеся запретам… А Эрнст Неизвестный любил повторять, что нигде не видел такого количества антисоветчиков на одном квадратном метре служебной площади, как в ЦК КПСС. Это гротеск, конечно, но гротеск со смыслом.
И усилия всех этих людей, а число их грех было бы преуменьшать, не пропали даром. Прибавьте сюда множество тех, кто просто боролся с недостатками, не догадываясь, что подтачивает устои режима, как капля точит камень, если вспомнить максиму древних.
Не будь этого «быдла», некому было бы подтолкнуть Горбачёва к переменам, некому – поддержать и развить их, когда они были начаты. Другое дело, что на стороне демократии объявились в условиях открытости и гласности свои «большевики», то есть экстремисты, доводившие ситуацию до абсурда, объявлявшие, что всё написанное и сказанное, словом, обнародованное при советской власти, легально, фальшиво и лицемерно в силу одного этого. Пресловутая фига в кармане.
Даже Александр Исаевич Солженицын не избег такого заблуждения, заподозрив в грехе двоемыслия даже некоторых сотрудников «Нового мира», о чём тоже поведал нам автор «Дневников».
ЕГО ПРАВДЕ НЕ НУЖНА БЫЛА «ЭЖОПОВЩИНА»1
Так случилось, что после моей статьи «Не по кругу, по спирали», опубликованной в журнале «Дружба народов» в конце 70-х годов, Юрий Валентинович Трифонов каждую свою новую вещь, большую или малую по объёму, приносил мне с автографом, а то ещё и в рукописи, как это случилось, например, с романом «Время и место». Шли у него тогда эти новые вещи так густо, что однажды я не утерпел и спросил с чувством здоровой, белой, по Роберту Рождественскому, зависти, как это он успевает со столь железной регулярностью выдавать на гора один за другим такие шедевры. Он задумчиво посмотрел на меня, пожевал полными негритянскими губами – что всегда делал, прежде чем поддержать диалог, – дотронулся до своих круглых роговых очков, поправил застёгнутый ворот рубашки без галстука и сказал, начав со слова «вот»: «Вот, вы слышали, наверное, поговорку: у каждой собаки свой час лаять. И он быстро проходит…»

«Быстро проходит…» Тогда у меня и мысли не мелькнуло, что в этих словах прозвучало, быть может, предчувствие. Его час? Сегодняшнему читателю, помнящему или слышавшему, какие литературно-политические вихри закручивались вокруг каждого нового произведения Юрия Трифонова, такое утверждение крамольного по тем временам автора тоже может показаться неожиданным. А между тем оно с изумительным лаконизмом характеризует ситуацию, господствовавшую в эпоху позднего застоя.
В то время как у властей Трифонов числился в чёрном списке еретиков, подрывателей основ, иные вольнодумцы – «Аэропорт», как вдова писателя, тоже прозаик, Ольга Трифонова называет их теперь (по месту обитания писательского квартала недалеко от станции метро с таким названием), – сетовали на излишнюю его толерантность по отношению к раннереволюционному прошлому страны. Как Булату Окуджаве, тоже сыну репрессированного и расстрелянного политического деятеля, завсегдатаи пресловутых кухонь приписывали Трифонову идеализацию «комиссаров в пыльных шлемах». «Юрочка, твой папа высек бы тебя за образы комиссаров в романе «Старик»», «Юра, ваши «Предварительные итоги» – плевок в интеллигенцию».
Юра отвечал мрачно, твёрдо и с оттенком злобы. А повинен он был лишь в том, что был абсолютно свободен от предвзятости, не надевал шор. И на свой лад следовал совету Станиславского: если речь идёт о монстре – ищи в нём человеческое.
Кстати, этой специфической категории интеллигенции, предпочитавшей «разговоры на кухне» гласному противостоянию режиму, пусть и в рамках легальности, тоже нашлось место на страницах повестей и романов Трифонова. Как бы ни свирепствовали официальные круги, которые тоже, кстати, уже не были тогда монолитными, как бы ни обличали Трифонова те, кто травил и в конечном счёте добил «Новый мир» Твардовского, природа, которую гнали в дверь, входила в окно. За автором с «клеймом» новомировца охотились та же «Дружба народов» Сергея Баруздина, «Юность»… Статьи о его новых вещах – неважно, упрощённо говоря, хвалебные или ругательные – появлялись чуть ли не в каждом печатном органе.
Журнальные тетрадки и свежевышедшие томики продавались на чёрном рынке втридорога, а зарубежные издатели – как на Востоке, так и на Западе – спешили первыми подать вновь созданному Всесоюзному агентству авторских прав (ВААП) заявку на приобретение права на издание очередной новинки, что тоже не прибавляло Трифонову симпатий со стороны власть предержащих и что, в свою очередь, нимало его не смущало.
Как раз в то время Любимов, относившийся к Трифонову со своего рода суровой нежностью, поставил на «Таганке» почти одновременно «Мастера и Маргариту» и «Дом на набережной». ВААП, которым я тогда заведовал, немедленно уступил права на постановку этих вещей в интерпретации Любимова многим зарубежным театральным агентствам. Всем желающим. На стол Суслова, второго человека в компартии, немедленно легла «памятка», в которой ВААП обвинялся в продвижении на Запад идейно порочных произведений.
– Там, – рассуждал на заседании секретариата ЦК, куда и я был вызван, Михаландрев (такова была его «подпольная» кличка), заглядывая в анонимку, – голые женщины по сцене летают. И еще эта пьеса, как её, «Дом правительства»…
– «Дом на набережной», – заботливо подсказал ему кто-то из помощников.
– Да, «Дом правительства», – повторил Суслов. – Вздумали для чего- то старое ворошить.
Я пытался свести дело к юрисдикции. Мол, Женевская международная конвенция не предусматривает возможности отказа зарубежным партнёрам в уступке прав на произведения советских авторов.
– Они на Западе миллионы заплатят за такое, – отрезал Суслов, – но мы идеологией не торгуем.
Через неделю в ВААП нагрянула бригада комитета партийного контроля во главе с некоей Петровой, которая ранее добилась исключения из партии Лена Карпинского.
Я поведал об этом Юрию Валентиновичу, когда мы сидели с ним и с Ольгой за мисками обжигающего супа-пити в ресторане «Баку», что был на тогдашней улице Горького. «Видит око, да зуб неймёт», – то ли утешая меня, то ли вопрошая, вымолвил Трифонов, пожевав предварительно, по своему обычаю, губами. И оказался прав, потому что Петрову вскоре отправили на пенсию «за превышение полномочий».
Кстати, этот трагикомический эпизод на заседании высшего партийного органа, о котором я тут же рассказал, конечно, и Трифонову, и Любимову, как-то ещё больше сблизил нас, «товарищей по несчастью», мы стали чаще встречаться, перезваниваться, обсуждать развитие ситуации, обмениваться новостями.
Трифонов в ЦК не был вхож, а у Любимова там были доброжелатели, в том числе и помощник Брежнева Анатолий Черняев, наш с Ю.П. общий друг, которые тоже помогал разруливать ситуацию. Трифонов, который писателем быть не прекращал ни на минуту, мотал, по моим наблюдениям, наши рассказы на несуществующий ус в предвкушении того, что они ещё могут ему пригодиться в работе за письменным столом.
О Трифонове говорили, что он неразговорчив, едва ли не косноязычен, а мне казалось: это всё оттого, что так много имеет он что сказать. И каждый раз, прежде чем открыть рот, думает: а стоит ли? Нет, не из недостатка уважения к собеседнику, а оттого, что мысль изречённая есть ложь. Пока выведешь на язык то, что внутри, половину растеряешь. Не лучше ли просто сесть за письменный стол и выложить, что у тебя в голове…
Был, правда, один случай, по поводу которого Юрий Валентинович разговорился и показал себя прекрасным рассказчиком. Дело было у него на даче, куда он пригласил Любимова.
– Сидели пили, – рассказывал он мне, явно не по делу употребив этот глагол. – Обедали, – сам же и уточнил. – А тут целое паломничество. Работяги, которые крышу чинили, явились.
– Валентиныч, дай на пол-литра.
Дал.
– А нам закусить нечем.
Дал им кусок колбасы. Хлеба с сыром. Ушли. Через полчаса ещё пара приходит. Говорят, что из местной дачной конторы. С претензиями по поводу двух якобы незаконно срубленных берез. Намёк такой – либо на пол-литра сейчас же отслюни, либо в суд подадим.
Базарят, а сами всё на Любимова посматривают.
– Это кто ж этот седой? Где-то мы его видели.
– На мавзолее, – невозмутимо сообщил Юрий Петрович.
Обалдели. Второй от растерянности спрашивает:
– А чего ж ты там сейчас не стоишь?
– Так парада же нету, – серьёзно отвечает Любимов.
Помялись мужики и отправились восвояси, забыв и об охране окружающей среды, и о пол-литра.
Мы вспоминали с Юрием Петровичем об ушедшем уже Трифонове в Стокгольме, когда я, тогда посол СССР в Швеции, пригласил его, всё ещё опального, на приём, посвящённый очередной годовщине Октября. И в той праздничной суете и суматохе Ю.В. вдруг привиделся мне как живой, таким, каким приходил ко мне на Большую Бронную, в ВААП. В твидовом пиджаке, в синтетической рубашке без галстука, но с застёгнутым воротом, в круглых роговых очках, с неторопливым «в-о-от» на полных негритянских губах.
…Таков был избранный – вернее, подсказанный ему его натурой, особенностью таланта – угол зрения, что при всей вызывающей остроте, разоблачительной силе его вещей к эзопову языку, «эжоповщине», как тогда говорили, ему не приходилось прибегать. Он говорил всё, что хотел сказать, и так, как он этого хотел. И цензура, как правило, спохватывалась уже post factum.
Сдаётся, что и сегодня хрестоматийное «пятикнижие» работавшего в подцензурных условиях Юрия Трифонова («Обмен», «Предварительные итоги», «Долгое прощание», «Другая жизнь», «Дом на набережной»), как и последовавшие за ним повести и романы, говорят о том времени не меньше, чем иные, в том числе и самые талантливые, произведения, родившиеся в условиях вольного слова на Западе.
Я уж не говорю о «чернухе», которая разлилась по страницам книг, журналов, газетных полос, когда, в начале 90-х, она стала не только дозволенной, но и желанной в глазах власть предержащих.