Ирина, между вашей первой публикацией, которая состоялась в журнале Урал в 2004 году, и первой в Знамени прошло семь лет. Что вы делали все это время? Что произошло между этими публикациями?
Если смотреть на качество первых публикаций, то можно увидеть, что они очень юношеские, и по большому счету очень чепуховенькие. То есть они происходили в период моей работы-учебы. В 2001 году я поступила в Литинститут. Почему не было ничего другого, каких-то серьезных, легитимных, скажем так, публикаций, кроме нескольких журнальных тех лет? Во-первых, я человек далекий от любых тусовок – я принципиально в них не вхожу, и в каких-то местах я просто не появлялась, ни с кем особо не контактировала, не ходила по редакциям. В отличие от каких-то других людей, которые это считают нормой – пробежаться по всем редакциям, ходить туда каждый понедельник, грубо говоря, и задалбливать редактора до тех пор, пока он наконец-то не напечатает три твоих стихотворения, чтобы просто от тебя отвязаться. Таких персонажей много. Я этого никогда не делала просто потому, что не стоит ставить людей в неловкое положение своими визитами.
А так – я могу сказать, что у меня выходили книжки. Причем, училась редактуре я на самой себе, потому что все мои книги, кроме одной, составлены мною лично. Никаких опытов на кошках, все на себе – трагическая медицина буквально. То есть все ошибки редакторов были проверены на собственной шкуре, больше я их уже не делаю. Сейчас, когда я редактирую серию, которую мы запустили с Андреем Пермяковым, ситуаций, когда в верстку встало какое-то лишнее стихотворение, уже не возникает.
 Эта та серия, в которой вышли книги «Сплошная облачность» и «Поющий час»?
Эта та серия, в которой вышли книги «Сплошная облачность» и «Поющий час»?
Да, эта серия, которую мы условно назвали «провинциальная лирика». Наши с Андреем книжки вышли пока что без логотипов, без вот этого названия. Если будет допечатка, книги выйдут с логотипами. Мы просто решили сперва посмотреть, что у нас из этого получится.
Расскажите, пожалуйста, о самой серии? Эта серия призвана сделать что?
Эту серию мы с Андреем Пермяковым задумали как возможность показать авторов, которые присутствуют – определенно и однозначно – в современном литературном процессе, если можно так выразиться. Которые оказывают на него определенное влияние и просто существуют как фигуры, но не участвуют, опять же, в каких-либо тусовках, не появляются или появляются крайне редко в столице и так далее. Условно мы назвали серию «Провинциальная лирика». Провинциальная еще в том смысле, что этимология слова «провинция» – pro вперед и vincere побеждать, покорять. То есть в латинском языке слово «провинция» негативного оттенка не имело, он появился гораздо позже, и мы его не считаем правильным.
Провинциалы – это люди, живущие далеко от столиц, как правило, люди, которые живут в своем круге, в какой-то своей среде, они не похожи друг на друга. И в этом главное достоинство серии – показать очень разных авторов, работающих в разных направлениях, с разными методами работы. Буквально недавно мы подготовили «Песни мудехара» – книгу Александра Корамыслова, поэта из города Воткинска, который весьма, очень оригинальный автор, и, может быть, не всякому придется по вкусу. Вышла книга стихов Василия Овсепьяна под названием «Грустный человек».
Дальше пока наши планы раскрывать не буду. Могу только повторить, что это будут авторы именно такие – оригинальные, свежие. У кого-то в серии выйдет первая книга, у кого-то не первая, а у кого-то и далеко не первая. Возможно, потом будут какие-то новые серии, потому что это такая хорошая, интересная работа, которой мы с большим удовольствием занимаемся. Она, конечно, отнимает много времени и сил, душевных в том числе, особенно у меня как у редактора-составителя – именно по времени. Пермяков работает как продюсер, это тоже очень серьезная деятельность, но временные затраты по отбору, по перечитыванию всего этого десять раз и компоновке – это ложится на меня. Я рада, что сейчас у меня будет больше времени этим заниматься, потому что это моя, на самом деле, любимая работа и любимая деятельность.
Книги выходят в Санкт-Петербурге, как-то так у нас сложилось, мы плодотворно сотрудничаем со «Своим издательством». Книги аскетичные, ничего лишнего.
А по поводу перерыва в моих публикациях… Выходили книги, я публиковалась в изданиях типа алтайского альманаха «Ликбез», например. Иногда появлялась в каких-то уральских изданиях, в сетевых в том числе. Тогда базовым было то, что я издавалась, плюс училась в Литинституте, который мне заменял любые тусовки, там был очень хороший круг общения, и я не искала чего-либо за этим кругом.
А кто входил в этот круг?
Как-то так мы подобрались люди не тусовые, по большому счету. Есть такой замечательный прозаик в городе Саранске, Стас Нестерюк – великолепнейший прозаик, там он очень известен. Ну, опять же, он не выходит за эти региональные рамки – не потому что он пишет прозу низкого качества, нет. Это отличная проза, просто великолепная, но ее автору шума не надо, и он не выходит за эти рамки, ему и так хорошо. Есть такой замечательный поэт Владимир Беляев, но не тот Беляев, который в Питере, а тот Беляев, который в Туапсе. Прекрасный краснодарский поэт Анна Мамаенко, совершенно бескомпромиссная личность.
Если начинать перечислять, то Литинститут – это же не только твой курс, да? Это множество людей с разных курсов, с которыми ты общаешься. И со многими действительно хорошими поэтами и прозаиками, с которыми я сейчас дружу, я познакомилась именно там. Яна-Мария Курмангалина, например, Саша Переверзин, редактор издательства «Воймега», Ната Сучкова, Анастасия Рогова – прозаик и критик. Кто-то стал близким другом, кто-то остался в рамках знакомства, тем не менее, ты людей видишь, знаешь, ты их читаешь, и это оказывает свое влияние. Литинститут хорош именно тем, что он дает среду. Ну, по крайней мере, в наше время давал, сейчас, говорят, стало хуже, но я не знаю.
А потом после окончания Лита, 2007 был год, я как-то затосковала и поехала на фестиваль в Пермь. Там мы познакомились с Андреем Пермяковым. Вот оттуда постепенно вышли все наши совместные проекты, множество той работы, которую мы делаем вместе.
После Литинститута был тяжелый моральный провал. То есть у меня была среда – и тут ее не стало, осталась только литстудия «Ступени» в Нижнем Тагиле. Помогала вести там занятия, издавала книжки, свои и чужие, выпускала альманахи, редактировала и никуда не высовывалась. Как говорил Воланд, если что-то будет надо, сами предложат и сами все дадут. В общем-то, так и получилось, потому что с той же публикацией в «Знамени», которая в итоге принесла мне премию этого журнала, я не бегала и не просила, чтобы стихи напечатали. В какой-то день мне в ЖЖ вдруг написала Ольга Юрьевна Ермолаева и сказала: а давайте мы вам сделаем публикацию, а давайте вы нам пошлете стихи. Я действительно послала ей стихи, но она проделала гигантскую работу. Из того, что я выслала, она действительно что-то взяла. И в то же время эта невероятная женщина перелопатила весь мой ЖЖ в поисках стишков, вытащила все, что могла, и составила какую-то совершенно убойную подборку, чего я вообще не ожидала. Подборка эта, по сути, легла в основу книги «Поющий час». Роль Ольги Юрьевны в современном литературном процессе переоценить невозможно, это фантастический человек, который для того, чтобы вытаскивать молодых (или не очень молодых) авторов, чтобы открывать новые имена, не жалеет ни времени, ни сил. И никто, по-моему, больше до такой степени этим не занимается. Потому что если посмотреть на многообещающие имена из молодых, то там эта изящная и твердая ручка будет приложена. В девяти случаях из десяти это будет именно так.
За публикацию в «Знамени» вы получили премию, а сейчас у вас была публикация в «Новом мире», и опять же в «Знамени». Ожидаете ли получения новых премий?
Я и премии «Знамени» не ожидала, у меня, честно говоря, был шок в какой-то момент. Мне многие люди действительно так и говорили: вот, вышла твоя подборка в «Знамени», у тебя теперь точно будет премия. Я им отвечала, что на такие вещи не загадываю, и цели, естественно, такой в принципе не ставилось – ты пишешь стихи не ради премий, ты их просто пишешь. И вдруг Ольга Юрьевна сообщила, что меня утвердили практически единогласно. Я этого не ожидала.
Подборка в «Новом мире» вышла также шикарная, спасибо Павлу Крючкову, который ею занимался и так много в нее вложил. Тоже прекраснейший редактор – я просто посмотрела на эту подборку и увидела, что она получилась абсолютно иная, чем в «Знамени», потому что у «Нового мира» совершенно иная загрузка, и целеполагание другое, и стихи там отбираются другие. Совершенно иной настрой, но мне она тоже очень нравится.
А премии – это не то, о чем стоит думать. Я лично просто радуюсь тому, что эта подборка вышла. Получилась такая хорошая реплика. То есть каждая книга, каждая подборка – это какое-то высказывание, и вопрос в том, что я хочу сказать именно сейчас. До этого была небольшая подборка в «Волге», тоже хорошая, и там Алексей Александров очень постарался, и, опять же, я посмотрела на результаты – и мне очень понравилось.
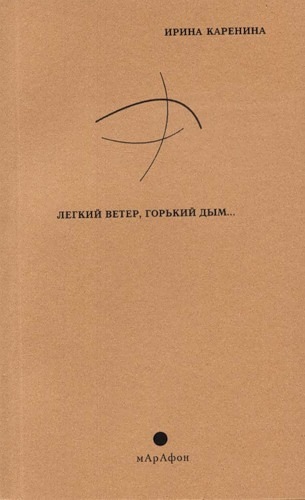 Мне в этом смысле на редакторов, видимо, везет. Кстати, единственный раз, когда мою книгу редактировал другой человек – это когда редактором выступал Юрий Казарин. Это была четвертая книга, называлась «Легкий ветер, горький дым», и результат мне очень понравился. Дурного слова ни в чей адрес у меня не находится. У меня ощущения от работы всех этих людей просто великолепные.
Мне в этом смысле на редакторов, видимо, везет. Кстати, единственный раз, когда мою книгу редактировал другой человек – это когда редактором выступал Юрий Казарин. Это была четвертая книга, называлась «Легкий ветер, горький дым», и результат мне очень понравился. Дурного слова ни в чей адрес у меня не находится. У меня ощущения от работы всех этих людей просто великолепные.
А публикация в «Знамени» была до переезда в Минск?
По-моему, уже после. Я переехала в 2010 году. На вручение премии я уже однозначно приезжала из Минска.
Повлиял ли как-то переезд в другую страну, в этот город, на вашу поэзию, на поэтику, на ощущения?
На самом деле, смена территории очень сильно влияет, и часто люди, переезжающие из родных мест куда-либо еще, теряют свои корни и перестают писать. Это такая распространенная беда – я этого дико боялась, уезжая. Но на тот момент у меня практически не было выбора, уезжать или не уезжать. Как-то так сложилось. Я очень боялась, что приеду и писать не смогу. Довольно долго у меня был переходный период, какие-то пертурбации, когда всякие странные вещи получались. Потом очень много времени стала съедать работа, и писать я стала гораздо меньше. Сейчас я надеюсь, что отдохну, что станет полегче. Потому что у меня лежит куча недописанных, недоработанных, брошенных стихотворений. Но для меня нормальна ситуация, когда ты что-то пишешь подолгу: я могу одно стихотворение 5-6 лет писать. Я могу долго работать, потому что настроения, ощущения имеют свойство возвращаться.
То есть речь идет о том, чтобы войти в одну реку дважды, а то и не дважды…
А это не то чтобы река – это, скорее, поток из мира горнего. Ну, в принципе, сегодня тебе хорошо – завтра тебе плохо. Ближе к сорока годам весь наш набор эмоциональных ощущений раскладывается на вполне четкий спектр, отслеживается, анализируется превосходно. И когда я понимаю, что: ага, у меня сейчас настроение вот такое – значит, мне нужно вернуться к этому стихотворению и его дописать. Другое дело, что иногда подходящего настроения приходится ждать годами.
То есть состав крови вашей поэзии не изменился? Муза переехала с вами или тут появилась новая?
Очень многое зависит от географии, на самом деле. Урал – место специфичное.
Но в ваших стихах ведь нет привязок к географии…
Да, но ощущения от разных мест – совершенно разные, чувство земли – совершенно разное. То есть Урал – это очень мощное, древнее и местами кровожадное божество. Здесь, в Беларуси, более легкие ощущения, и здесь они еще и более исторические, потому что все эти места старше в смысле документированной человеческой истории.
А с другой стороны, мне здесь стало легче, светлее, прозрачнее местами. То есть если раньше была кровь и мясо, то сейчас больше воздуха, воды.
А позитива стало больше?
Нет. Я слово «позитив» категорически не приемлю, особенно в отношении стихов.
Говоря о позитиве, я имею в виду не щенячью радость, а большую жизнерадостность.
Поэзия вообще не очень жизнерадостная вещь, потому что от хорошей жизни стихов не пишут. А кто пытается, у того получаются какие-то странные штуки. Я бы сказала, что это просто… ну, вот даже если сравнивать, допустим, русскую печаль и еврейскую печаль, это две большие разницы. Ощущения, оттенки, смысловые, вкусовые – они настолько разные! Так что здесь стало воздушнее, стало больше воздуха, воды, холода, может быть, временами, появилась какая-то прозрачность. Я не могу сказать, позитив это или не позитив, но то, что стало менее душераздирающе, это однозначно, судя даже просто по моим личным ощущениям. Урал в этом отношении безжалостен абсолютно. У него есть склонность к пожиранию своих детей. Сама уральская земля – она очень суровая. Прекрасная, но очень суровая.
А с чем связана смена вами стольких профессий и специальностей?
Если вы имеете в виду ту экзотику, которая у меня болтается в биографии на Википедии, это связано с 90-ми годами сугубо, потому что, когда ты хочешь кушать, сделаешь все, что угодно. Был такой момент, когда помогала выживать земля, и приходилось таскать мешки с картошкой по осени. Тогда я весила 32 кило, была очень худая и голодная, а мешок весит в среднем около 50, но вопросов нет, его надо взять и отнести. Так что вся эта экзотика исходила из желания как-то трудоустроиться, заработать какие-то деньги. Потом, когда все более-менее нормализовалось, я стала заниматься журналистикой, редактурой. Последние пятнадцать лет – только этим и ничем другим.
То есть это именно то, что вам нравится?
А я потомственный редактор. Потомственный поэт и потомственный редактор. Ничего с этим не могу поделать. (Смеется.) Впервые в типографию я попала в возрасте нескольких месяцев в пеленках – и это наложило отпечаток на всю мою так называемую личность и всю оставшуюся жизнь.
Правда ли, что литература – это субкультура? Вы сказали это как-то в одном из интервью.
Вы знаете, мне бы хотелось надеяться, что литература потихонечку начинает из этого субкультурного постмодернистского состояния выходить. Потому что девяностые, нулевые годы действительно загнали нас в субкультуру. Когда есть готы, есть ролевики, а вот есть писатели – здрасьте. Вот это мы, тоже какие-то ненормальные, чокнутые, которые бегают, что-то там сочиняют.
Но сейчас мы видим картинку немножко иную. Сейчас уже прозаики могут своими книгами иногда что-то себе зарабатывать. Именно писатели, а не просто слэшеры, сочинители любовных романов, детективов и фантастики (хотя среди фантастов есть великолепные, прекрасные писатели, которых вытеснили на обочину – но это тема для отдельного разговора; то есть я не считаю фантастику каким-то таким развлекательным жанром), есть действительно классные авторы, о которых можно говорить и говорить.
Уже потихонечку к литературе возвращается интерес – не просто к чтиву, а именно к литературе. Писатели становятся медийными фигурами, они высказывают какие-то мнения, то есть в принципе потихоньку они начинают возвращать себе ту роль, которую играли в обществе раньше.
И, кстати, надо понимать, когда авторы сетуют на низкую тиражность и на то, что их плохо знают, что мы на самом деле из советской госиздатовской системы, когда даже первая книга молодого регионального автора издавалась тиражом, допустим,150 тысяч экземпляров, возвращаемся к той жизни, которая была у нас до революции, перед революцией. Когда тот же Валерий Яковлевич Брюсов, человек крайне неприятный, но в то же время много сделавший для литературы и патологически тщеславный, тем не менее, при своем весьма дотошном подсчете, сколько у него читателей, называл около тысячи человек.
Да и у Ахматовой, если не ошибаюсь, двести экземпляров была книжка, и не только у нее.
Да. Это абсолютно нормальное явление. Я в этом смысле Майю Петровну Никулину хочу процитировать, великолепного уральского поэта: «Читателей поэзии не должно быть много, это высокое напряжение языка, это высшая форма его проявления, и выдержать ее может далеко не всякий человек, и далеко не всякому человеку это надо». Поэтому то, что мы выходим из субкультуры, хорошо, но идти в массы и на стадионы – это не то, что нужно поэзии.
Посмотрите на эстрадников. Когда сейчас говорят, что поэзия никому не нужна, потому что вот были эстрадники и они собирали стадионы, надо понять, что это на самом деле не требуется. Не надо собирать стадионы, поэзия для них не предназначена, это тихое дело, совершающееся в тиши, и воспринимать ее нужно в тиши. Эстрадники – это феномен, безусловно, но это тот феномен, который, как мне кажется, в повторении не нуждается. Вот он был – это замечательно, это надо отметить, зарегистрировать, принять, усвоить, но не пытаться повторять. То есть мы возвращаемся в естественное состояние.
К вопросу о субкультурах добавлю, что я принципиально против утверждения какой-либо элитарности в литературе, потому что есть изрядное количество авторов, что в поэзии, что в прозе, которые задирают нос, надувают щеки, говорят: «Мы элита, а вот тут какое-то быдло, которое читать-то нас не будет, но оно не будет нас читать не потому, что мы плохо пишем, а потому что – мы же элита». Это очень удобная позиция, которая может оправдывать любую графоманию, по большому-то счету. Но именно она гарантированно загоняет литературу в узкую и мелкую субкультурную нишу.
Здесь, мне кажется, надо понимать, что поэзия существует для читателя, а не для самоутверждения автора. То есть она, в первую очередь, конечно, для автора, потому что он выражает какие-то свои эмоции, это его клапан – и плюс он инструмент, на котором играют, он говорит определенные слова, которые приходят к нему откуда-то свыше. Но делает автор все это – для читателя. Для того чтобы донести до кого-то хоть что-то, даже если это будут два-три человека, не суть важно. Как то, что от Бога, может быть каким-то элитарным? Оно для всех.
Другой вопрос, что каждому читателю свой поэт, а каждому поэту свой читатель. И почему, кстати, была так популярна советская поэзия и проза? Почему был такой невероятный читательский бум? Эти люди работали для народа, для простого вкуса, они говорили простые вещи простым языком. Или сложные вещи, но простым языком. Они были понимаемы, они были любимы. Неслучайно в русскоязычном пространстве самый влиятельный человек ХХ века – Владимир Семенович Высоцкий, причем это предельно народный автор, которого элитарный Иосиф Бродский ценил чрезвычайно высоко. Бродский, не особо восторгавшийся каждым встречным бряканьем под гитару, о Высоцком отзывался с такой похвалой, с которой он, по-моему, больше вообще ни о ком не отзывался. Потому что у Высоцкого фантастический уровень работы с языком. И ведь это очень простые слова, доступные каждому, в том-то и дело. То есть здесь никакой претензии на элитарность нет, это для всех, и вот так и должно быть.
Хотя я сама очень часто какие-то вещи усложняю, наверное, но суть в том, что надо учиться говорить о сложном более простым языком. Но у нас есть такое направление (чьи представители нередко отличаются именно утверждением собственной элитарности), как т.н. актуальный авангард. Я по большей части не вижу, что в нем авангардного, и не вижу, что актуального, потому что приемы, которыми на этом направлении пользуются, были опробованы еще кубофутуристами сто лет назад. И для меня, естественно, то, что было провозглашено сто лет назад, авангардом не является. Это вполне себе традиция. И этот метод тоже должен существовать, потому что для дальнейшего эволюционного роста у нас должны быть и те, и другие, и пятые, и десятые. Самые разные направления, самые разные безумия – это все должно быть, но не должна утверждаться элитарность чего-либо. Все, что есть – это лишь разные ветви эволюции, а которая из них разовьется, решит уже история, а не мы. Сменится два поколения, и станет более-менее понятно. Пятьдесят лет пройдет – и уже будет примерно ясно, что остается, а что не остается.
В Википедии написано, что творчество Ирины Карениной отличается литературностью. Как по мне, так термин «литературность» имеет какую-то отрицательную окраску. Как вы считаете, ваше творчество литературно или нет? Что вы понимаете под этим словом?
Андрей, лишь бы оно, мое творчество (терпеть не могу это слово), не было филологично, вот все, что я могу сказать. Пусть отличается литературностью, да чем угодно, но лишь бы не филологичностью. В Литературном институте слово «филолог» было ругательным. Нам говорили: «Отличник? Пшел вон на филфак – нам нужны не отличники, а таланты!».
А чем отличаются стихи филолога? Вы можете отличить?
Отличить могу, речь идет об уровне ощущений очень четких. Сразу видно стихи или прозу физика, медика, например. Есть определенные ощущения, позволяющие мгновенно делать вывод – перед тобой историк, технарь или филолог. Это тип мышления. Очень трудно сформулировать, но тип мышления ты угадываешь всегда. У филологов он строго определенный и я его чаще всего недолюбливаю, хотя и среди филологов встречаются сильные авторы.
Проблема в том, что учиться на филфаке и не начать что-либо писать практически невозможно, ну, нереально почти. Это такая профессиональная болезнь. Человек, любящий литературу, любящий стихи, неизбежно начинает писать что-то сам. Вопрос в том, что не всегда из этого что-то получается. Статистически вероятность появления из среды филологов по-настоящему серьезного автора не выше, чем из любой другой среды, уж поверьте. Просто у филологов сочинительство – вещь массовая.
Что касается литературности… знаете, я не люблю ненужной грубости в стихах. Возможно, меня за это и клеймят литературностью, потому что нынче ведь популярно в определенной страте выдавать что-нибудь грубо-физиологичное, подчеркнуто пакостное. У нас в настоящее время очень часто система распознавания «свой-чужой» работает именно так: если ты с нами, в нашей тусовке, надо обязательно что-нибудь о пьянке, о сексе, можно групповом или с козой, еще о чем-нибудь. Потому что оно-де современно и без него никак. А мне неинтересно, я скучный человек в этом смысле. То есть или ты это делаешь, или ты об этом пишешь – ну, в конце-то концов, мы все уже очень давно не дети. Литература вообще и поэзия в частности должна человеческую душу приподнимать, а не опускать. Слово – субстанция радиоактивная, и пользоваться ею надо крайне аккуратно.
Если бы вы могли подобрать эпитет к тому, каким поэтом является Ирина Каренина, охарактеризовать ее, то что бы это было за слово?
Эмоциональный.
Если у поэзии есть главный секрет, в чем он заключается?
Секрет… Вообще в ее существовании. Откуда берутся эти слова? Почему они укладываются в эти строчки? Откуда приходит желание это высказать именно так? Не то, что именно в столбик написать. И почему вырастает сила высказывания именно с этим выкладываением в строчку? Приемчики приемчиками, инструменты инструментами, ремесло ремеслом, а все остальное – это настолько божественная тайна, что ничего с этим не поделаешь. В принципе, как и с любым искусством.
А в чем заключается главный закон поэзии?
Поэзия никому ничего не должна.
Что сейчас читает Ирина Каренина, и какой автор в последнее время ее поразил?
Хм, трудный вопрос. Последнее, что я всерьез читала, а не просто проглядывала, это авторы, которых я знаю. Например, у Саши Переверзина в «Новом мире» вышла замечательная подборка, которая мне очень-очень легла на душу, и до этого, по-моему, в «Звезде», была потрясающая публикация Ирины Евса, с которой я дружу и очень ее люблю. И вот это в какой-то момент действительно заставило меня побарахтаться, то есть это было очень здорово. А читаю я сейчас биографию моего любимого модного персонажа, дизайнера Мэри Куант, которую перевела моя подруга Аня Логинова с английского языка. С большим удовольствием читаю, несмотря на некоторую мозаичность. Дальше впереди у меня «Французский парашютист», повесть Леши Козлачкова, вышедшая в «Знамени» недавно. Еще у Саши Кирова свежую книгу прозы мечтаю выпросить.
 Ну, и сейчас давайте поговорим о вашей новой книге в той серии, которую вы с Андреем Пермяковым организовали. Вы сказали, что в основу вашего сборника легла знаменская подборка…
Ну, и сейчас давайте поговорим о вашей новой книге в той серии, которую вы с Андреем Пермяковым организовали. Вы сказали, что в основу вашего сборника легла знаменская подборка…
Да. Я не издавалась с 2006 года. За это время, за семь лет, накопилось очень многое. Поэтому когда встал вопрос, из чего делать книгу, логика подсказывала, что надо на что-то опираться. На что-то, может быть, уже опубликованное, проверенное, обкатанное. Поэтому за основу была взята подборка в «Знамени», которая потом, дальше, обрастала другими стихами. В принципе, это нормально.
Конечно, я могла сделать все совершенно по-другому, и материала у меня хватит еще на три книги, на самом-то деле, но пусть пока лежит. В этом смысле с возрастом приходит определенная неторопливость. Повторю, что я училась редактуре на себе. Когда-то раньше мне казалось, что вот у меня сейчас набралось стихов – и мне надо впихнуть их в книгу, издать, чтобы от них освободиться. Я не умела тогда их просто отпускать, вот как есть, мне обязательно надо было их опубликовать, чтобы стряхнуть и понять, что они теперь живут своей жизнью.
Сейчас такой потребности уже нет, и нет желания. Стихи сейчас отлетают от меня буквально в течение пятнадцати минут. И когда я знаю точно, что здесь работа закончилась, я здесь больше не буду ничего менять, через пятнадцать минут я уже даже не ощущаю написанное как нечто свое, а – как нечто отдельное. В целом свое, но отдельное. То есть это пришло, было высказано, и вот оно само по себе. Такие ощущения, наверное, от взрослых детей, живущих своей жизнью.
Но ваша книга «Поющий час» очень тоненькая – там около 60 стихотворений?
Даже, может быть, меньше, хотя я не считала, если честно. У меня были и большие книги, в которых было по 120 стихотворений, например, и я даже не могу сказать, хорошо это или плохо. У объемных книг свои достоинства, у небольшого сборника – свои. Хотя бы то, что прочитать его можно за один раз, сесть – и прочитать, и получить цельное впечатление. Большую книгу, с моей точки зрения, надо разбивать на несколько разделов, по сути дела, запихивать под одну обложку несколько книг, объединенных каким-то общим звучанием. В новой книге я сказало ровно то, что хотела сказать в данное время в данной точке реальности.
Интервьюировал Андрей Фамицкий




