Константин Комаров
Поэт, литературный критик, литературовед. Родился в 1988 году в Свердловске. Выпускник филологического факультета Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина. Кандидат филологических наук. Тема диссертации – «Текстуализация телесности в послереволюционных поэмах В. В. Маяковского». Лонг-листер поэтических премий «Белла» (2014, 2015, 2016), «Новый звук» (2014), призёр поэтических конкурсов «Критерии свободы» (2014), «Мыслящий тростник» (2014). Участник Форума молодых писателей России и стран СНГ в Липках (2010–2018). Стихи публиковались в журналах «Звезда», «Урал», «Гвидеон», «Волга», различных сборниках и альманахах, на сетевом портале «Мегалит», в антологии «Современная уральская поэзия» и др. Автор нескольких книг стихов. Автор литературно-критических статей в журналах «Новый мир», «Урал», «Вопросы литературы», «Знамя», «Октябрь», «Нева» и др. Член редколлегии Энциклопедии «Уральская поэтическая школа». Живёт в Екатеринбурге.
Слово как тело и тело как слово
(О книге: Ванни Бьянкони. Избранное. Тот, кто есть ты /
пер. с ит. и коммент. П. Епифанова. — М.: Русский импульс, 2017)
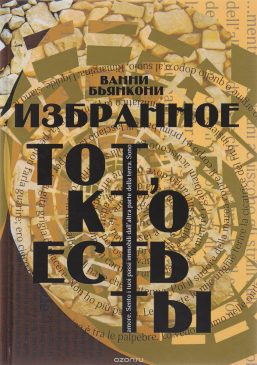 Поэзия Ванни Бьянкони – современного швейцарского поэта, уже довольно известного в Европе – дошла наконец и до российского читателя.
Поэзия Ванни Бьянкони – современного швейцарского поэта, уже довольно известного в Европе – дошла наконец и до российского читателя.
Примечательно само название книги избранного Бьянкони. Оно знаменует двойной взгляд лирического субъекта на себя самого – одновременно имплицитное зрение изнутри своего тела и остранённое глобалистское восприятие извне. Эта принципиальная раздвоенность и определяет лирический сюжет книги.
Открывает книгу на редкость добросовестное и содержательное предисловие переводчика и вдумчивого комментатора Бьянкони Петра Епифанова, в котором всё разложено по полочкам и расставлены все необходимые акценты. В целом подвижническая работа Епифанова над книгой вызывает большое уважение – что называется, комар носа не подточит.
Основная коллизия книги видится мне как коллизия самоидентификации, напряжённая попытка совпасть с самим собой. Попытка эта выглядит заранее нереализуемой, но и без поисков этого тождества поэт обречён. Такое положение лирического субъекта меж двух огней отсылает нас прямиком к традициям романтизма с его трансцендентальной иронией и т.д. И тут мы сталкиваемся с первым парадоксом (а Бьянкони – вообще поэт парадокса), ибо в самой фактуре его стихотворений ничего романтического, казалось бы, и нет, – скорее напротив, ощутим вектор антиромантизма. И тем не менее неоромантические нотки – явленные, прежде всего, в лейтмотивах безвыходного самопоиска – здесь слышны. Нет, выходы, конечно, намечаются, но остро ощущается их временность, непрочность, тленность (ахматовско-бродские мотивы – «ржавеет золото и истлевает сталь» и т.д.).
Каковы же средства этой самоидентификации? Слово и тело. Слово как тело. Тело как слово. Поэзия Бьянкони – это в первую очередь метапоэзия (то есть поэзия о поэзии, по аналогии с «метапрозой»). Для него принципиально важна физическая ощутимость слова, речи, самого процесса говорения. В этом смысле обращает на себя особое внимание на стихотворение «Слова»:
Укрывающиеся под тоном фразы,
волнуемые жестами, привязанные к тембру голоса,
поросшие мхами письменного алфавита,
мокнущие в бане слюны, вибрирующие между голосовых связок,
слова перекликаются на своём наречии,
состоящем также из слов, но взятых в единстве
содержания и формы, души и тела.
То же – и миметический поэт:
<…..>
Он вслушивается во всё это, чтобы ловить их,
чтобы, преследуя, схватывать рифму, овладевать ими, чтобы
со стен страницы мигали пуговицы стеклу
глаз, вспыхивали пониманием друг друга,
поджигали солому, лист бумаги, бровь…
Почти все языковые метафоры у Бьянкони насквозь физиологичны. С другой стороны, и тело «ословлено», «оязычено». Понятно, что такая стратегия – не придумка Бьянкони, что это было ещё у французских символистов, а потом, под влиянием Ницше, расцвело пышным цветом в модернизме и авангарде начала 20-го века. Но если, например, у футуристов эта отелесненность письма представала, в общем, в оптимистично-победительном ключе – поэт-демиург, само его тело – поэзия, связки и произносимое с их помощью неразделимо, рука и написанное ей – одно целое, то у Бьянкони эта дихотомия остродраматична (как, кстати, и у во многом «выпадавшего» из футуризма раннего Маяковского, у которого Бьянкони – через Бродского – многое бессознательно позаимствовал). Но при этом, как бы ни были взаимопропитаны друг другом речевое и телесное, отождествиться они опять же не могут, совпасть не получается, остаётся зазор, и этот зазор мучителен. Собственно, этот зазор и заставляет поэта наматывать бесконечные онтологические замкнутые круги самопостижения.
Принципиально важны для Бьянкони отношения с пространством. Даже время у него опространствлено. Инвариантом таких отношений мне представляется стихотворение Бродского «Я родился в балтийских болотах подле…». Что касается непосредственно времени, то это метафизическое время частной жизни частного человека – время, уравнивающее всё, когда теракт в Париже встаёт в один ряд с разводом и переездом простого обывателя только потому, что все эти события случились в один день – 7-го января. Исторические катаклизмы не выводятся Бьянкони на первый план, он не «социальщик», но философ. Это лишь фон (хоть и значимый), на котором просвечивается уязвимость и неуклюжесть человеческой жизни вообще. А ведь это единственная жизнь, которая нам дана – посмертного бытия в поэтической вселенной Бьянкони точно не предусмотрено. Только частная жизнь частного человека. И этот стержневой для его поэтики мотив тоже пришёл к Бьянкони от Бродского, который вообще напоминает о себе в книге постоянно. Вплоть до жанрового обозначения – «большое стихотворение».
Именно «большое стихотворение» а не поэма – это жанр, в полной мере реализованный именно Бродским. При всём при том Бьянкони сохраняет свою поэтическую индивидуальность – Бродский им бережно и уважительно, но самостоятельно – осваивается, о подражательности здесь речи не идёт.
Оригинальна любовная лирика Бьянкони. Это художественная попытка свести любовь к сексу и упоению таковым в качестве соприкосновения с живым, трепещущим миробытием. Попытка – снова неудавшаяся. Потому что человек, который буквально состоит из поэзии (а именно таковым видится лирический субъект Бьянкони), всегда будет искать в теле партнёра – рифмы, созвучия, суффиксы и окончания. В итоге соитие оказывается равным стихотворению, о чём свидетельствует, в частности, диптих, состоящий из стихотворений «Если хочешь стихов о любви» и «Если хочу стихов о любви»:
Если хочешь стихов о любви,
значит, хочешь, чтобы в затылок тебе впились
глаза склонённого мужчины,
которые смотрят так близкоблизко;
хочешь, вот здесь, да, у самого края листа,
охватить губами ритм,
толкающий тебя в белое, ритм –
то единственное, что останется после.
<…..>
Если хочешь, я напишу их, эти стихи о любви,
и они скажут: твои глаза – короткое замыкание,
а голос — электрическая дуга;
воздух горит и не прекращает,
если проводник не оказывает сопротивления,
позволь же мне проводить, любимая.
<…..>
Если хочешь стихотворение о любви,
все эти чёрные толчки –
ты только что произнесла их:
то были твои слова.
………………………………………………
Если хочу стихотворение о любви,
я не сознаю себя, я – шаг в воздухе;
если хочу стихотворение о любви,
повелеваю тебе, чтобы ты длила судорогу.
Если хочу стихотворение о любви,
твои ступни – на моём теле, чтобы чувствовать, что всё живо.
Слово для Бьянкони вообще представляет что-то вроде путеводной звезды – маяка самоотождествления – чаемого, но невозможного до конца – и всё же происходящего в процессе словесного движения, пути отелесненных букв:
А если ты потерялся, слово – будь оно прочтённым
иль сказанным — вот первый инструмент,
чтобы освоиться, чтобы принять решенье,
или отвергнуть; буквы – точно пальцы,
с другими сцепленные пальцами. Слова –
как губы тёплые, прижавшиеся к векам.
И как тот, кого ты любил, или кого
ещё полюбишь, буквы и слова ведут
туда, куда один не доберёшься.
В итоге мы получаем психологически убедительный образ раздвоенного, мерцающего субъекта, отчаянно пытающегося совпасть с самим собой (и как бы гасящего это отчаянье нарочито трезвой и ровной интонацией, но читателя всё равно не обманешь). Пытающегося, но всё время не совпадающего (недаром так частотны в книге эпизоды остранения, когда поэт смотрит сам на себя со стороны, и не просто смотрит, а пристально изучает), бесконечно «рябящего», как помехи в телевизоре, сквозь которые нет-нет да и прорвётся чистое изображение, но тут же уйдёт обратно в этот слепящий треск. С античной трагедийностью (не случайно в тексте про расстрел «Шарли Эбдо» Бьянкони именует персонажей именами античных героев, ему не важна историческая конкретика, а важна вневременная мифологическая «подкладка» под неё). И от этого несовпадения читателю больно по-человечески. А это значит, что пресловутый катарсис достигнут – пусть временами и в форме антикатарсиса.




