Дмитрий Бавильский – прозаик, критик, эссеист. Родился в Челябинске, живет в Челябинске и Москве. Автор нескольких книг прозы и многочисленных статей об искусстве. Лауреат Премии Андрея Белого и дважды лауреат премии «Нового мира». С 2014 по сентябрь 2017 работал редактором трех отделов («Музеи», «Реставрация», «Книги») в ежемесячной газете «The Art Newspaper Russia». Редактор раздела «Библиотечка эгоиста» литературно-критического и общественно-философского сетевого журнала «Топос» (2001—2012). В 2010 — 2016 годах вел отдел прозы в сетевом журнале «Окно». Член редакционного совета журналов «Урал» и «Новый берег». Проза переведена на многие языки мира.
Ольга Балла-Гертман – критик, эссеист, редактор. Окончила исторический факультет Московского Педагогического Университета. Редактор отдела философии и культурологии журнала «Знание-Сила», редактор отдела публицистики и библиографии журнала «Знамя». Автор книг «Примечания к ненаписанному» (USA, Franc-Tireur, 2010) и «Упражнения в бытии» (М.: Совпадение, 2016).
Фото Дмитрия Бавильского сделал Вадим Темиров
Дмитрий Бавильский: «Никакой Италии не существует»
Интервью, ч. 2
Разговор с Дмитрием Бавильским, начатый в предыдущем выпуске «Текстуры», Ольга Балла-Гертман продолжает уже на материале его новейшей книги, которая по форме – травелог о путешествии по итальянским городам и пространствам, по существу же – нечто совершенно другое. Балла попыталась с помощью автора разобраться в особенностях и порождающих силах этого (сколько бы автор ни отрицал!) небывалого текста, умышленного и естественного одновременно. Да и не о пространстве он вовсе, и, может быть, даже совсем не об Италии, хотя, с другой стороны, и без Италии, и без пространства его бы попросту не было. Правда, и разговор, в сущности, не столько даже о книге как таковой. Нынешний травелог – продолжение венецианского дневника «Музей воды», который Бавильский вёл осенью 2014-го года и который вышел в «Рипол-Классик» в 2016-м.
Ольга Балла-Гертман: Вот Вы говорите, что стремление сделать прежде небывалое в литературе Вам чуждо как гордыня. (Каюсь, у меня в своё время был, да и по сию пору жив, такой ответ на вопрос о смысле чего бы то ни было, хоть бы и самой жизни: делать надо то, чего, кроме тебя, не сделает никто.) Если не новизна, не добавление небывалого к уже сущему, не трансформация этого сущего в небывалом прежде духе (в общем-то, на самом деле, довольно типовые ответы на вопрос о смысле всякой культурной активности) – в чём тогда Вы видите смысл писательской работы? (Ну, хотя бы, не вообще, а только собственной?)
Дмитрий Бавильский: А я только свою собственную культурную активность и могу описать, так как человек человеку – марсианин, и мотивации у других людей могут быть какими угодно. Никогда не предскажешь. Но любой текст уникален, любой текст не может быть написан другим человеком, поэтому, если ты его не напишешь, то его и не будет. Возможно, что к лучшему.
«Уникальное» и «новое» – совсем разные категории. Культуре, которую Лотман определяет как «обмен информацией», неважно, какое содержание транслируется городу и миру – новое или старое, главное, чтобы не «белый шум»…
Моя мотивация к письму самая простая – я так провожу время. Мне так нравится проводить время. Зарабатывание денег и деланье карьеры в литературе обычно мешают конечному результату, так как человек, который пишет ради того, чтобы конвертировать буквы во что-то иное (деньги, статус, удовлетворение тщеславия, глаза навыкате), во-первых, ошибся медиумом, так как литература – именно подлинная литература, а не «донцова» или «быков» – занятие ныне не слишком социально успешное и теперь это занятие скорее для неудачников. «Для лохов».
Во-вторых, если твоя задача – стать публичным интеллектуалом, занять должность, устраивать круглые столы и за казённый счет ездить на книжные ярмарки, то ты, конечно, будешь устраивать и ездить, но тексты, оказывающиеся средством, а не целью, обязательно отомстят. Такая эволюция особенно хорошо видна по топовым блогерам, которых можно и интересно читать, пока они не начинают монетизировать свои площадки – посмотрите, что стало с каким-нибудь блогером Варламовым.
Возможность зарабатывать текстами схлопнулась вместе с советской властью. Поэтому, начиная с 90-х годов прошлого века, писательская мотивация изменилась коренным образом, что влияет на качество и химический состав букв самым радикальным, но так до сих пор и не осмысленным образом. На первое место в нем выходят тщеславие и амбиции. Ведь когда деньги устраняются из процесса и выводятся за скобки, включаются совершенно иные механизмы. Соответственно, меняется не только мотивация (и, например, степень усидчивости), но сам строй видимого контекста, превращающегося, ну, например, в отдалённый филиал шоу-бизнеса и способ публичного проведения досуга.
Так вышло, к счастью или к сожалению (лично я воспринимаю это как ласковое проклятье), что я – литературное животное, почти полностью (в том числе и физиологически) состоящее из вещества литературы.
Складывание букв для меня – это не ремесло и не наработанные рефлексы, но первичные инстинкты и импульсы. Кошка ведь не думает, почему она реагирует на раздражение или вытягивается во сне так, а не иначе – животное естественно в порывах.
Так и у литературных животных текстовые реакции с раннего детства опережают рефлексию, и мне проще думать пальцами, а не головой.
У нас в семье всегда существовал культ литературы. Возможно, желание мамы и папы видеть во мне поисковика истины и проводника правды было столь сильно, что я уже в три года занимался самиздатом собственных рукописей.
Может быть, в моём выборе, где от меня ничего не зависело, сыграло роль соединение разных кровей, советское безвременье, в котором поэзия и проза были главными возможностями бегства и носителями смысла, круг общения и чтения…
Теперь разбираться с этим поздно – от меня уже ничего не зависит. Я, может быть, и хотел бы заняться чем-то иным, но писанина, чтение, размышление над прочитанным – единственные, помимо сна, способы привести себя в состояние нормы.
Я буду писать и на необитаемом острове – мне важнее написать, чем быть прочитанным, так как письмо – чёткий и конкретный, результативный процесс, а результат чтения, особенно связанного с другими людьми, – туманный и неопределённый, как любое будущее и как любая субъектность. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся. Я могу отвечать только за то, что у меня внутри, поэтому для меня ново то, что ново лично для меня. То, что я ещё не делал или не читал.
О.Б.-Г.: Вот почему-то мне это очень понятно – письмо как (почти) единственный способ привести себя в норму и форму, только в моём случае это ещё и назойливо требует оправдания в виде «чего-кроме-тебя-не-сделает-никто», а, оного не обретши, ропщет и бунтует. Ещё один промежуточный, технический вопрос: но зачем тогда делать из написанного книги и издаваться?
Д. Б.: Сходите как-нибудь на концерт, посмотрите, как дирижирует Российским Национальным Оркестром или солирует за роялем Михаил Плетнёв. Он не любит публики и, видимо, боится её, публичные концерты отвлекают его от сосредоточенности на глубинном рабочем процессе.
Но Плетнёв выбрал такой способ взаимоотношения с социумом, который, например, требует для результативности своего труда определённых акустических условий, из-за чего человек становится заложником своего способа производства.
О. Б.-Г.: То есть аудитория, хоть бы и предполагаемая, важна как акустическое условие?
Д. Б.: Ну да, это как правильно свет в музее поставить, – проверяешь себя: в ремесле помогает. Современные книги – то, как они функционируют в нынешнем обществе, не способны покрыть никаких издержек и трудозатрат. Это мой потлач людям, чьи потребности и поиски направлены в ту же сторону, что и мои.
Разумеется, подлинные литературные тексты – материи не скоропортящиеся и товар весьма длительного хранения (о чём у нас тоже постоянно забывают), но будущее моих текстов меня интересует даже меньше их настоящего: мне бы только день простоять да ночь продержаться.
О. Б.-Г.: Пора переходить к вашей растущей, отчасти на наших глазах, новой травелогической итальянской книге. Уж сколько было итальянских странствий в мировой, европейской и русской культуре и их описаний – вы знаете куда полнее меня. В чём же ваша внутренняя новизна того текста, который растёт на основе ваших прошлогодних перемещений по итальянской земле – кроме того очевидного, что «я здесь ещё не был – дай-ка опишу»?
Д. Б.: Новизна его – в том, что, помимо всего прочего, это путешествие не в пространстве, но во времени.

И дело не в том, что Италия сочится культурой и достижениями разных эпох, но в том, что травелог (пару дней назад Андрей Левкин предложил мне пользоваться другим жанровым обозначением – «путешествие») – жанр особенный и пока что поддающийся обозрению: он весь на виду, и можно видеть, кто и что в нём сделал. Или пока ещё не сделал. Особенно если брать локальный «итальянский» текст, или «американский», или «русский провинциальный»/«русский столичный». Уютный и удобный простор для типологии, сравнения и соревнования.
По разным причинам мне неинтересно соревноваться с современниками, мотивации которых я вижу и понимаю изнутри (ремесло критика в этом здорово помогает), а вот вызвать на состязание Гёте или Стендаля – гораздо продуктивнее.
Даже если и проиграешь Гёте, то замах замысла всё равно никуда не денется. Как учил Маяковский, ревновать нужно к Копернику, а не к мужу Марьи Ивановны.
Но я не вижу обречённости на проигрыш Гёте или, например, Рёскину, которые были сильны только в том, в чём они были сильны, в чём последовательно специализировались: Гёте – в естественнонаучных подходах, с кочки которых он обозревал искусство и социальную жизнь Италии 1786 года; ну, а художник Владимир Яковлев (автор превосходного путешествия «Италия в 1847 году») описывал увиденное острым взглядом живописца, Джон Рёскин – искусствоведа, Вернон Ли – меланхолической англичанки, эмигрировавшей в Италию и врастающей в новую родину…
Для того, чтобы отличиться от предшественников, надо хорошо знать себя, свои лучшие стороны, приумноженные пристрастиями, возделывая именно тот кусок общего сада, который понятен и близок только тебе. То, что можешь заметить и сформулировать лишь ты. При том, что ходишь самыми массовыми тропами – в толпе «обычных людей», так как я принципиально пишу лишь о том, что доступно «простому туристу». Но, кстати, именно это и подхлёстывает особенно – когда на лицо такая видимая конкуренция…
Да, твоя делянка может быть совсем небольшой, вполне допускаю, что не шире грядки, но она же твоя собственная. Незаёмная.
О. Б.-Г.: В чём же ваши и только ваши сильные стороны при работе с пространством и его временем?
Д. Б.: Путешествие по Северной и Центральной Италии (шесть регионов, тридцать три города) начинается с фразы о том, что никакой Италии не существует, но есть пространство культуры – умозрительное шоссе или виртуальный тоннель наших собственных культурных залежей, которые копятся внутри всю сознательную жизнь и которыми я хотел бы поделиться.
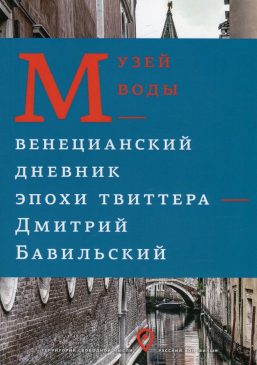 Первая книга из этой итальянской серии – «Музей воды», посвящённая Венеции, вышла пару лет назад. Она отчаянно заигрывала с жанром путеводителя и была в этом смысле набором отдельных точек, связанных единой городской территорией (для меня принципиально важно, что Венеция будто бы обозрима).
Первая книга из этой итальянской серии – «Музей воды», посвящённая Венеции, вышла пару лет назад. Она отчаянно заигрывала с жанром путеводителя и была в этом смысле набором отдельных точек, связанных единой городской территорией (для меня принципиально важно, что Венеция будто бы обозрима).
Эта задача кажется мне гораздо проще нынешней, так как предполагает стационарное наблюдение за округой, тогда как в новой книге я постоянно в пути: города меняются как в калейдоскопе, а так как путевые книги мои – ещё и про восприятие, то я должен описывать все эти места в режиме реального времени.
Вот и выходит весьма напряжённый текстуальный марафон, измеряемый уже не реперными точками, как «Музей воды», но набором отдельных нарративов, которые, подобно девичьим косам, сплетаются из отсылок к самым разным явлениям и формам деятельности – от тумана и фресок до спагетти и кинематографа.
Мне интересно было внутри единого текста конструировать автономные сюжеты, протягивая их как можно длиннее – насколько это получится, но без занудства (такая была у меня одна из важнейших технических сверхзадач).
Травелог (Левкин, прости) важен мне возможностью поиграть с жанрами, создавая композиции, которые словно бы расшатывают жанровый костяк, чтобы быть максимально непредсказуемыми.
В этом смысле дневник о 33-х городах кажется мне игрой в роман-эссе, постоянно балансирующей между документальным трипом и отвлечённой беллетристикой, в которой читатель может примерить одежду одинокого странника, сосредоточенного на переживании полуторамесячной вненаходимости.
Это если путано и, по возможности, кратко.
О. Б.-Г.: Кстати: в чём преимущества «путешествия» как жанрового обозначения перед «травелогом», термином вроде бы вполне устоявшимся, в чём вообще различия?
Д. Б.: «Путешествие» – более традиционное, душистое и менее формальное; «травелог» – нечто современное и формализованное; кроме того, заёмному англицизму всегда предпочтительнее что-то своё, тем более, что перевёртыш этого слова с «шествием путём» мне весьма симпатичен.
О. Б.-Г.: Я же представляю это так: путешествие – практика, а травелог – её описание. Не тавтологично ли, не ведёт ли к путанице называть описание именем практики и не поискать ли уж тогда иного имени, если «травелог» суховат? Ну, хотя бы «одография» – если оставаться в пределах греческого, где «одос» – путь, а «графия» – понятно что…
Д. Б.: «Травелог» у меня ассоциируется с блогом. Это слово нужно мне в подзаголовке книги, чтобы, действительно, избежать тавтологии и чтобы показать, что речь идёт о нашем времени – поскольку там опять, как и в венецианской книге, будут в соседстве «времена википедии и твиттера», задающие тексту важную технологическую особенность. Ведь в том виде, в каком я его делаю, он не мог быть построен ещё десять лет назад.
О. Б.-Г.: Не будучи путешествием в пространстве, ваше итальянское странствие, однако, именно в пространстве и разворачивалось (когда бы речь шла о чистом времени, достаточно было бы оставаться в какой-то одной пространственной точке, – ан ведь нет же…). Прежде всего – почему в этом нет противоречия? Кроме того: как оно было в этом пространстве выстроено? (Попросту: что за последовательность соединяла между собой эти 33 города и почему именно такая?) Ведь было же и выстроено, и продумано, и подготовлено, — никак не было чистой импровизацией. Значит – был замысел и умысел. В чём же он состоял? И что за подготовительная работа этому предшествовала?
Д. Б.: Это условная (по условной восьмёрке) дорога между Венецией и Флоренцией, так как мне не хотелось впадать в колею прямого сравнения и делать свои путевые заметки «повестью о двух городах».

В проект этого маршрута заложена масса всяких концептуальных примочек. Например, всё начинается в Равенне с её мозаиками, дальше, через «поиски» Пьеро делла Франческа, фабула выруливает в Тоскану, пробираясь через Возрождение к Новому времени, ну и так далее.
В новой книге постоянно меняются и чередуются медиумы, культурные герои, темпоритм повествования, а главное – возникает всё больше и больше «бытовых» пауз вне музеев и церквей, которые важно описать как можно более подробно, так как искусство и история – лишь повод попасть внутрь вненаходимости, сбежать из социального дискомфорта, способ вывалиться из реальности, но не цель.
Обычно путешественники описывают достопримечательности, но пропускают промежутки, точно их ничего более не интересует и ничего, кроме выставок, с ними не происходит. А где же мясо?
Для чего мы идём в музей или на концерт? Да для того же самого – чтобы выпасть из повседневности и попасть на территорию культуры. Вот и мне хотелось устроить маршрут таким образом, чтобы постоянно находиться в диалоге и в контакте с искусством максимальное количество времени – а Италия подходит для этого лучше всего.
О. Б.-Г.: Вот вы и ответили на вертевшийся на языке, но так и не заданный вопрос, а почему, собственно, именно Италия…
Д. Б.: В самом деле: она задаёт такие правила восприятия, которые не нужно объяснять – все знают, что такое Венеция или Пиза с ее падающей башней.
Италия – идеальная рама понимания, на которой можно уехать в тексте гораздо дальше, чем без рамы. Наличие этой рамы походит на присутствие в нашем сознании Википедии, освобождающей повествование от общепризнанных фактов, за перечислением которых можно скрыть растерянность или отсутствие личных мыслей.
Меня еще профессор Марк Бент учил в университете, что когда человеку (студенту или литературному критику) нечего сказать о книге, он впадает в пересказ.
Любой путеводитель обречён на некоторую степень компиляции и общих мест, поэтому меня очень устраивает то, что фактическую часть можно передоверить Википедии, а свой текст по возможности двигать оригинальными мыслями и чувствами.
Я придумал эту книгу, когда, читая Муратова, обращал внимание на повсеместное «мы», которое никак не расшифровывалось в тексте. Кто была его спутница, эта загадочная половинка «мы», с которой Муратов садился в поезд, в автомобиль или которая делила с ним ночлег на постоялом дворе?
О.Б.-Г.: А как связано с Вашим замыслом таинственное муратовское «мы»?
Д. Б.: В этом муратовском «мы» – бытовая и личная сторона его путешествий, которые выносятся за скобки.

Я вижу в этом важное архитектурное противоречие «Образов Италии», так как описания картин и соборов у Муратова весьма личные, но при этом – с выпадением «мы» и прочих приватных обстоятельств – описания будто бы стремящиеся к объективности.
Сосредоточиваясь на промежутках с той же мерой внимания, как и на пиках трипа, я, таким образом, закрываю эти лакуны, делаю фабулу цельной и возвращаю повествование от повода (искусство) к цели (сам человек и его бытие). Это делает мой текст более субъективным, художественным. Ну да, «романным».
Вот что важно: в жанре путешествия я стараюсь бежать условностей, хотя полностью миновать их невозможно. Но хотя бы отчасти можно же придать тексту иллюзию естественности поползновений и органичности роста?
Для меня возвращение к подлинной цели путешествия схоже с феноменологической процедурой, отсеивающей ненужные ходы и устаревшие риторические фигуры.
Я бы хотел упростить конвенцию между мной и читателем, максимально усложнив себе жизнь в пути и работу над книгой.
О. Б.-Г.: Как же сочетаются избегание условностей и художественный (он ведь таков?) характер работы? Разве искусство само по себе – не Большая Условность, состоящая из многих малых? (А если условностей избегать, тогда – прямая речь, простой дневник, но у вас ведь куда сложнее и умышленнее.)
Д. Б.: Я с этим играю. В книге есть три вида восприятия. Во-первых, непосредственный и мгновенный отклик, заключённый в твитах, которые я пишу на месте.
Во-вторых, есть ещё подведение итогов дня – их я обычно делал в Фейсбуке.
В-третьих, к концу поездки появляются обобщения и то, что я называю «аналитикой», которую я продолжаю распрямлять, точно смятую простыню, уже дома.
Восприятие путника проходит три стадии окаменения и дистанции, со временем требующих всё большего количества «риторических фигур» и условностей. Важно записать впечатление, пока оно не схватилось, создать непосредственный документ. А дальше уже разукрашивать его всякими литературными штучками.
Моя книга – свидетельство: это – конкретная поездка в конкретные часы и дни, а не просто главы о разных городах, куда складываются знания, накопленные за многие посещения, как у Муратова или Ипполитова.
О. Б.-Г.: Но мы так и не проговорили важного вопроса, почему это путешествие — именно во времени, а пространство здесь если и имеется в виду, то вторично и инструментально.
Д. Б.: Это путешествие во времени, так как одной из моих важнейших задач оказывается «растяжение настоящего».
Когда впечатление объёмно, то запись его, в попытке достичь максимальной точности при передаче другим людям, начинает расширять мгновение.
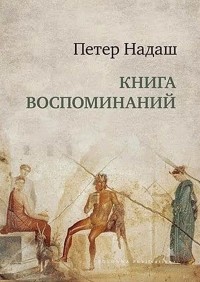 Я это подсмотрел в «Книге воспоминаний» Петера Надаша, понятого мной в русле книги Алейды Ассман «Распалась связь времён?», совсем недавно изданной «Новым литературным обозрением». В ней она объясняет, каким было ощущение времени в эпоху модерна, которая закончилась. Но мы-то пока ещё живы и идём к иному формирующему наше понимание «режиму темпоральности», где сосуществуют, могут сосуществовать самые разные длительности. Всё зависит от индивидуальности человека.
Я это подсмотрел в «Книге воспоминаний» Петера Надаша, понятого мной в русле книги Алейды Ассман «Распалась связь времён?», совсем недавно изданной «Новым литературным обозрением». В ней она объясняет, каким было ощущение времени в эпоху модерна, которая закончилась. Но мы-то пока ещё живы и идём к иному формирующему наше понимание «режиму темпоральности», где сосуществуют, могут сосуществовать самые разные длительности. Всё зависит от индивидуальности человека.
Нет больше ни христианской временой шкалы, устремлённой в будущее, ни языческих циклов… И мне идеи Ассман, давно работающей с темой личного и общественного времени, сильно на руку, так как одна из коренных задач, которые я ставлю перед своей жизнью (в том числе и с помощью текстов) – постоянные попытки замедления.
И тут, кстати, можно вернуться к Прусту. Меня восхищает и завораживает его работа с временем и параллельными временами – со своим персональным, и с литературным, и с текстовым, и с культурным, и с каким угодно. И с общественно-политическим, почему нет?
И я вижу, как сильно Прусту помог Анри Бергсон. Любой серьёзной работе предшествует, должна предшествовать, тщательная проработка философского бэкграунда, современного автору, если автор стремится поймать «гений эпохи» и запах ветра. Я понимал и понимаю, что сам я, без философской подоплёки и помощи со стороны, с такими фундаментальными темами не справлюсь, поэтому долго искал философские тексты о времени и о механизмах работы памяти нашего времени. Алейда Ассман – не совсем «современный Бергсон», но она хотя бы даёт направление моим поискам.
Потому что проблема изменения времени – его ощущения, восприятия, – вопрос, от решения которого зависит в нашей жизни вообще всё остальное – преследует меня давно, ещё со времен конца СССР, когда переживание штиля и цикличности, дурной бесконечности исчерпалось, сошло на нет. Совпав с порой взросления. Опять же, кризис Просвещения, христианской теологии, постмодерн – вот вся эта гремучая смесь и сформировала мои стратегические порывы.
(Окончание следует)




