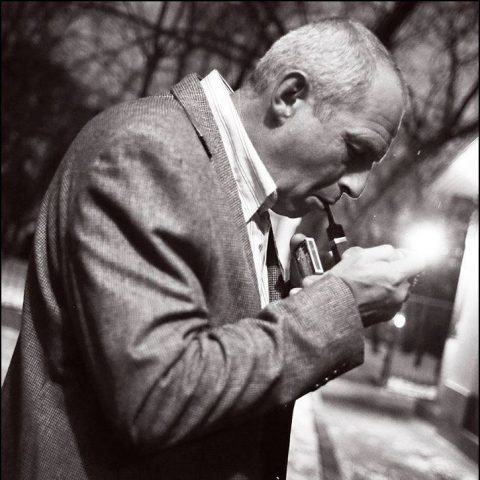Поэт Наум Кислик
О поэтах «фронтового поколения» написано много заслуженно дельного.
Но сегодня они не формат. И если о Д.Самойлове, Ю.Левитанском, С.Орлове, А.Межирове, Б.Слуцком etc. нынче молчат, но всё-таки всегда имеют в виду, — то о поэтах, которые и в «форматное» время были не на слуху, теперь и подавно мало кто вспоминает.
Наум Зиновьевич Кислик родился 26.09.1925 г. в Москве. В детстве переехал жить в Витебск, где работал его отец. Рано научился читать. Любил рисовать. Не закончив 10-й класс, он ушёл добровольцем на фронт. Под Курском получил тяжёлое ранение в голову. Лежал в госпитале. Вот как вспоминает об этом его младший брат Валерьян: «После ранения его долгие годы мучили головные боли. По прошествии многих лет, когда стали проявляться возрастные болезни, ему сделали множество рентгеновских снимков. Один из них он показал мне: часть черепа и верхняя челюсть, как звездное небо, были усеяны мельчайшими осколками».
После долгого лечения был комиссован и, приехав в Оренбург к родителям, поступил в пединститут.
Вскоре после войны вместе с семьёй переехал жить в Минск, где продолжил учёбу в БГУ. Первое стихотворение было опубликовано в армейской газете за подписью «красноармеец Кислик». Вот как об этом писал сам поэт: «Однако N, писатель и майор, которому мой случай был не внове, перелистав изделие мое, достал листок и дал команду: «В номер!»
Всю свою творческую жизнь Кислик провёл в Минске (чем ещё не повод не «видеть» поэта). Но, опубликовав в разные годы 10 поэтических книг, он никогда не включался критиками во «фронтовую» обойму, что вовсе не помешало А.Твардовскому высоко отзываться о поэзии Кислика.*
Поэма «Эпизод с солью», на мой взгляд, одно из лучших произведений о Великой Отечественной войне и по праву стоит в одном ряду с уже классическими образцами русской поэзии этого периода.
Прочитав поэму впервые в конце 70-х годов, я был поражён степенью её мастерства и кажущейся лёгкостью, за которой стояла тяжёлая душевная работа.
И сегодня, по прошествии многих лет и на фоне блистательных образцов русской поэзии, она не потеряла своей значимости, но наоборот — одно из подтверждений есенинского: «Большое видится на расстоянии».
Умер Наум Кислик 27.12.1998г.
“Госпиталя, госпиталя — обетованная Земля…” Это он написал после тяжелого ранения, когда был еще совсем молодым. Вот и умер в госпитале. Умер, как сам предсказал в стихах, “по истеченьи крови всей”. Стихи, к сожалению, сбываются. Кровь хлынула горлом.» **
Феликс Чечик
———————————————————————————————-
*Из письма к А. Кулешову от 25 декабря 1969 года: «Я дал согласие на перевод Кислику (речь шла о переводе поэмы) — это, судя по одним стихам в “Юности”- человек серьезный».
** Из письма А.Дракохруста В.Кислику.
ЭПИЗОД С СОЛЬЮ
Поэма
И оживал я, и кончался.
потом я ожил и окреп.
И тут надумало начальство,
чтоб я недаром ел свой хлеб.
Чтоб с кучею продаттестатов
из Закавказья на Урал
через Москву, через Саратов
я раненых сопровождал.
Сперва я думал: забастую!
Да что мне — надо больше всех?
И сам уволен я вчистую,
и сам увечный — мне не грех.
Леса пестрели в Закавказье
а за хребтом кружился снег,
и не сбежать от той оказии —
со мною шестеро калек.
Кто в Вятке жил, кто в Бузулуке,
а кто в каких-то Мензелях…
Один слепой, один безрукий
и четверо на костылях.
Пока неспешно по России
нас проводили поезда,
еще мы все не раскусили —
в чем радость наша, в чем беда.
Но был один — кряхтя от боли,
а все ж полазав по толчку,
полсидора дешевой соли
понаменял себе в Баку.
Подсобирал за христа ради,
нацелившись на чистоган:
прослышал он, что в Сталинграде
шла соль — полсотни за стакан.
Я б этой сволочи коленкой
со всею радостью поддал,
но — черт возьми! — он был калекой,
я и его сопровождал.
…Бежали смутно небосклоны,
дышали трудно города,
шли эшелоны, эшелоны,
оттуда — мы, а те — туда.
А те, без счета, мимо, мимо,
в закат, неяркий и сырой…
И разъезжались мы, томимы
взаимной завистью порой.
Но посреди круговорота
и превращения судеб
еще немалая забота
у всех была — насущный хлеб.
И с ворохом продаттестатов
мотался я, на горло брал:
через Москву, через Саратов
я раненых сопровождал.
И что положено — отстаивал,
стучал — где надо — кулаком,
и замерзал я, и оттаивал
в очередях за кипятком.
И, трижды матеря порядки,
я оформлял все литера,
и трижды были пересадки,
где мы ломились на ура.
И посреди круговорота,
мечу дамоклову под стать,
еще одна была забота —
от эшелона не отстать.
Пока ты лазишь на карачках
из-под вагона под вагон,
уж он, глядишь, за водокачкой
спешит, ревет, берет разгон.
И на морозе невесомый
дымок плывет за поворот,
а даром что «пятьсот — веселый»,
как окрестил его народ.
…Бредя уныло на платформу,
я сознавал, судьбу кляня,
что ни проезду, ни прокорму
моей команде без меня.
А в той команде инвалидной,
где не Устав уже, не Строй,
начпродом я, и замполитом,
и старшиной, и медсестрой.
Вертелся, словом, так и этак,
но все же исполнял сполна
все должности, что напоследок
определила мне война.
Беда, что не был службой тяги
минутку малую одну…
А что мне толку в той бумаге,
что я с войны — не на войну.
Что не страшиться мог штрафбатов,
что наплевал на трибунал?
Через Москву, через Саратов
я раненых сопровождал.
Я стал расхлебывать баланду,
по дымным станциям мечась,
я догонял свою команду,
как будто воинскую часть.
…Кого охрана не приметит
и не попрет с товарняка,
так тот, пожалуй, и приедет,
а уж «дойдет» наверняка…
Но вот наплыли спозаранку
коробка зданья, деревцо,
фанерка с надписью «Солянка»
и крик о том, что делят соль.
Детишкам, бабам в шапки, в руки
делили даром на путях
солдат слепой, солдат безрукий
и трое, что на костылях.
А в поезде, на нарах нижних,
перед печуркой, на свету
несостоявшийся барышник
оплакивал свою мечту.
Пока я лазал на карачках
из-под вагона под вагон,
он просвещал слепых и зрячих,
какой у жизни есть закон:
— С политбеседами про совесть
загнешься и на двух ногах,
а при своей дешевой соли
я как при хлебе и деньгах.
Мне шутки ваши, подковырки,
смешочки все — на кой же ляд!
В кино там, скажем, или в цирке
и то ведь платят за погляд.
А что, смотреть вам в зубы, что ли?
Наш брат, само собою, прост…
Так на, возьми щепотку соли,
насыпь-ка умному на хвост!
Ни барыша ему, ни смысла
с тобой вожжаться — он таков:
загреб харчи себе и смылся,
шукает новых дураков.
Да я, по правде, ни вот с эстоль
за дураков не огорчусь.
Как прохарчитесь вы до места —
Бог весть! А я то прохарчусь. —
Так при своей дешевой соли,
как при казне иной король,
цигарки тщательно мусоля,
он толковал, в чем жизни соль.
Передавал свой личный опыт,
скорбя как будто и любя:
— Не будь раззявой — сам обштопай,
чтоб не обштопали тебя!
…Из одного в другое ухо
проход свободный, задарма.
Но штука в том, что голодуха,
она — не тетка, не кума.
Качаясь по стальным ухабам,
вагоны темные ползли,
во сне тревожном, словно бабу,
держа в обнимку костыли.
Подсунув сидор в изголовье,
на нижней полке мирно дрых,
как, сбыв пшеницу по присловью,
владелец кладов соляных.
Ползли по шпалам стоны, стуки,
дрожал на лицах свет скупой…
— Пощупаем, — сказал безрукий.
— Посмотрим, — поддержал слепой…
…Вокзал без окон и без кровли —
слепого бедствия лицо,
и одинокое по-вдовьи
задымленное деревцо.
Вокзалу этому под пару
базар, где было в дни войны
торговцев больше, чем товару,
червонцев меньше, чем слюны.
Где продавалась, где менялась,
убого выстроясь в ряды,
вся эта соль, что отстоялась
на самом дне большой беды.
Там у путей, где зябкий ветер
морозной крупки сыпал соль,
толпились женщины и дети,
толкалась голь, теснилась боль.
Эх, голодуха, голодуха —
не молодуха, не кума!..
И произнес безрукий глухо:
— Соль раздается задарма…
— Валяй! — слепой махнул рукою, —
Не в соли соль и не в рублях!
— Давай, давай! — кивнули трое,
стоявшие на костылях.
Детишкам, бабам в тряпки, в шапки
товар бесплатный в дар поплыл…
Гонял по шпалам ветер зябкий
и землю стылую белил.
Солил ее с небесной кровли,
как будто не была она
от слез, от пота и от крови
насквозь и глубже солона.
…Не торопясь из-под закатов
в рассветы поезд ковылял
через Москву, через Саратов
из Закавказья на Урал.
С войны, с довольствия, с учета —
на все четыре, в белый свет!..
Но в той свободе было что-то
щемящее.
Какой-то след.
Нерастворимая крупица.
Горчайшей памяти кристалл…
Но вот проститься, разлучиться
нам постепенно срок настал.
Навстречу радости и муке,
сливаясь с темною толпой,
сперва ушел солдат безрукий,
потом ушел солдат слепой.
И замела следы поземка,
когда растаяли в полях,
когда ушли, стуча негромко,
те трое, что на костылях.
К концу пути, убито, тихо,
пересидевший всех иных,
стал собирать себя на выход
владелец кладов соляных.
Неспешно складывал пожитки,
в карманы что-то ушивал…
В окне лесок растаял жидкий,
снежок вовсю забушевал.
Когда поближе к Оренбургу
пошла степная полоса,
взял костыли, подумал, буркнул
и, тяжко крякнув, поднялся.
И незлобив, нежаден с виду,
а просто жалостен и стар,
вдруг протянул мне тощий сидор,
в каком держал он свой товар.
— Ну вот… сказать… остаток соли…
стакана три, а может, пять…
Бери… Да я ж по доброй воле,
от всей души, ядрена мать!
Чудак! — и, бросив соль на лавке,
шагнул к дверям, но странно так
вдруг дернувшись, как на удавке,
вернулся, взял, вздохнул: — Чудак!..
Бежали смутно небосклоны,
дышали трудно города,
шли эшелоны, эшелоны —
еще не кончилась страда.
Еще была открыта взору
неоперенного юнца,
который знать не знал в ту пору,
что и не будет ей конца.
1967