Полина Барскова родилась в Ленинграде. Училась на кафедре классической филологии в Санкт-Петербургском университете. Окончила этот вуз. С 1998 г. училась в США, посещала Калифорнийский университет (Беркли). Ее научная работа касается русской прозы тридцатых-сороковых годов (Егунов, Вагинов, блокадная литература). Является преподавателем русской литературы в Амхерсте в Хэмпшир-колледже. Участвовала в литературном объединении, руководил которым Вячеслав Лейкин. Там испытала значительное влияние Всеволода Зельченко — старшего товарища. Первая книга нашей героини была опубликована в 1991 г. Тогда же она стала Лауреатом на Всесоюзном фестивале молодых поэтов. Позднее Полина Барскова была удостоена первого места в литературном конкурсе под названием «Тенёта», а также премии «Москва-транзит». В ранних произведениях нашей героини чувствовалось влияние некоторых поздних романтиков, в частности французских. Среди них Рембо, Лотреамон, Бодлер. Первая книга, которую написала Полина Барскова, называлась «Рождество». В 1993 г. вышла работа «Раса Брезгливых». В 1997 г. был опубликован труд Mette Dalsgaard. В 2000 г. в свет выходит книга «Эвридей и Орфика». В 2001 г. появляются «Арии». В 2005-м наша героиня пишет «Бразильские сцены». В 2007 г. выходит труд «Бродячие музыканты». В 2010 г. появляется книга «Прямое управление». В 2011 г. издается «Сообщение Ариэля». Еще одна книга, которую написала Полина Барскова, — «Живые картины». Книга «Хозяин сада» была издана в 2015 г. За последние 15 лет опубликовала многочисленные статьи по культуре и литературе блокадного Ленинграда в НЛО, НЗ, «Сеансе» и пр.

Ростислав Ярцев родился в Троицке Челябинской области. Выпускник филологического факультета МГУ (кафедра теории литературы). Магистрант кафедры теории дискурса и коммуникации. Публиковался на литературных порталах «Прочтение», «Формаслов», «Полутона», «Сетевая Словесность», на сайте «Новая литературная карта России». Живёт в Москве.
Полина Барскова: «В мире десятки тысяч жертв, а я наблюдаю за цаплей»
Продолжение беседы с Ростиславом Ярцевым
Часть I см. ЗДЕСЬ.
Р. Я.: Полина, хочу спросить про ваши Амхертские онлайн-чтения, только что прошедшие, — на них были приглашены многие замечательные поэты, от Евгения Осташевского до Анны Глазовой, от Александра Скидана до Линор Горалик… Как вам кажется, эти поэты были скорее «про одно» или перед нами калейдоскоп?
П. Б.: На самом деле их немного, их могло бы быть гораздо больше — крупных современных поэтов. Но, поскольку было дано определённое количество воскресений, нужно было жёстко выбирать. И, кроме этого, у меня были несколько странные соображения: мне нужны были поэты с перформативными качествами, которые читают и изображают свои стихи таким образом, чтобы публика, не имеющая отношения к современной русской поэзии, была удивлена происходящим. И в этом смысле нужно было выбрать совсем немного: я подумала, что нужно выбрать очень сильных и при этом разнообразных, представляющих какие-то разные течения. И поэтому чтения, когда были, например, Оксана Васякина и Игорь Булатовский, — это было для меня, как сказано у Тургенева (писателя, которого я сейчас читаю по ночам), «очень волнительно». Потому что они, с моей точки зрения, представляют совсем-совсем разные интересы, ракурсы. Но при этом, как я поняла из отзывов, какое-то событие произошло, и, хотя они пишут совсем на разных языках, в некотором смысле они пишут про одно — про смерть, про красоту, про современность. Мне, конечно, хотелось создать современное событие, отразить то, что происходит сейчас. И, конечно, если бы это был бесконечный цикл чтений, то можно было бы звать совсем юных, не бреющих бороды. Но они ещё не очень известны, не слишком переведены, а нужны ведь ещё переводы… Так что в основном были сорокалетние.
 Р. Я.: Мне кажется, это очень хорошая выборка, показательный срез. Подхватив вашу мысль о том, что вы хотели представить то, что сейчас, хочу задать следующий провокационный вопрос. Во вступлении к вашей новой книге «Седьмая щёлочь: тексты и судьбы блокадных поэтов» (издательство Ивана Лимбаха, 2020) вы говорите, что мы должны смотреть на то, как проживалось это время теми людьми: без прикрас, без хрестоматийного глянца, без опрощения. Как сочетается ваше пристрастие к современности — с интересом к блокадному письму? Скажем, Лотман говорил, что историк, обращающийся к прошлому, неизбежно подвергает современность вторичной ретроспективной трансформации…
Р. Я.: Мне кажется, это очень хорошая выборка, показательный срез. Подхватив вашу мысль о том, что вы хотели представить то, что сейчас, хочу задать следующий провокационный вопрос. Во вступлении к вашей новой книге «Седьмая щёлочь: тексты и судьбы блокадных поэтов» (издательство Ивана Лимбаха, 2020) вы говорите, что мы должны смотреть на то, как проживалось это время теми людьми: без прикрас, без хрестоматийного глянца, без опрощения. Как сочетается ваше пристрастие к современности — с интересом к блокадному письму? Скажем, Лотман говорил, что историк, обращающийся к прошлому, неизбежно подвергает современность вторичной ретроспективной трансформации…
П. Б.: При всём запредельном почтении к Лотману я в качестве парадигмы для себя использую ОПОЯЗ. Поскольку я много занимаюсь Лидией Гинзбург, то и она, и её друг Борис Бухштаб всё время у меня в голове. И их стремление смотреть постоянно на день сегодняшний, и при этом быть историками литературы, и переносить методы занятия прошлым на занятия сегодняшним, и смотреть, работает это или нет, занимает меня. Блокадная поэзия же занимает меня по массе причин — но также и потому, что эти люди писали об истории или историю, которая прямо с ними происходила. Мне кажется это невероятно сложным явлением — и мы это видим даже прямо сегодня, что в фейсбуке люди начинают писать о карантине и пандемии, а потом как-то одёргивают себя: нет, не надо писать об этом, всё равно хорошо не получится. (Хорошо получается, на мой взгляд, у остроумца Юлия Гуголева). Специфика блокадного письма, сближающая этих людей с сегодняшним днём, — что люди пишут свою непосредственную реакцию на катастрофу.
Р. Я.: Какие самые яркие события на карантине вы зафиксировали на своём внутреннем сейсмографе?
П. Б.: Я вчера зафиксировала для себя событие: мы ходили гулять, и я увидела двух любовников, дивной стати молодых людей, которые целовались в масках. И тут я поняла, что происходит что-то небывалое. Я раньше этого никогда не видела и не могла себе помыслить. Эти два красавца на мосту через нашу куцую речку… Но мы все об этом говорим и думаем — и, что интересно, пытаемся об этом не говорить и не думать. На Амхертских чтениях мы каждого спрашивали об их ощущениях; мы явно ещё долго будем думать, как об этом говорить и писать. Сочетание полного кайфа и дикой тревоги, невероятного какого-то замедления или изменения времени, — многие говорят, что время потекло если не вспять, то как-то вкривь: куда-то оно утекает. Была недавно замечательная статья Полины Аронсон, что нам всем стали сниться дикие сны… А ещё в связи с Zoom’ом я подумала: вот недавно я выступала в Стокгольме, сейчас разговариваю с Москвой… Недавно во сне я была в Питере в доме детства, и там появились мои друзья из самых неожиданных мест. И я поняла, что с нашим восприятием пространства происходит что-то очень серьёзное, наше «где» станет другим. Начинается какого-то рода телепортация, о которой я мечтала всю жизнь, но не в таком виде: я хотела, чтобы человечество мгновенно сумело в едином порыве оказываться в Яффе и в Венеции, при этом ты сидишь у себя на кухне, как дурак, но Яффа и Венеция каким-то плоским образом вчипливаются в твою голову. Перемен очень много, и поверить в них сложно, понять их трудно. Всё это событие нашего «сейчас», и всё так быстро происходит и так быстро меняется, что мы пока ещё ничего не умеем понять.
Р. Я.: Вы как-то сказали о вашей патологической дружелюбности. Но тем не менее — к нам в дом приходят какие-то новые способы коммуникации, мы все переосмысливаем само понятие дружбы. Вы могли бы рассказать о главных дружбах в вашей жизни? Может быть, есть те, с кем вы недодружили…
П. Б.: Ой, это тоже важный вопрос — «недодруженные дружбы», просто сюжет. Интересно, что я сейчас перечитываю Дюма, — его чтение это общее место в плохой ситуации, в блокаду его много читали, — «Двадцать лет спустя» и вообще «Три мушкетёра» — главный текст о дружбе и о старении дружбы. В «Двадцать лет спустя» есть момент, как Д’Артаньян с ними всеми встречается — сорокалетними — двадцать лет спустя; я как-то очень близко к сердцу это приняла: каково это — в сорок лет переживать юношеские дружбы. Надо сказать, что Бог, про которого я не очень знаю и не очень уверена, проявил ко мне невероятную щедрость: я до сих пор близка со своим окружением детства.
Р. Я.: «Бог сохраняет всё»?
П. Б.: Да. Если не всё, но что-то. И, более того, какие-то из этих отношений детства с годами становятся всё сильнее, интимнее и печальнее, потому что мы вместе проходим сквозь потери. И это, конечно, удивительный опыт.
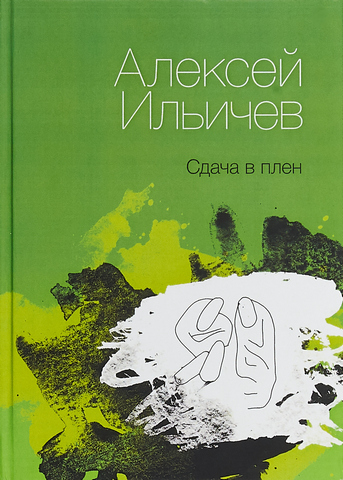 Р. Я.: Хотелось бы спросить в этом контексте ещё про Алексея Ильичёва (1970—1995), поэта, с которым вы были знакомы по студии Вячеслава Абрамовича Лейкина. В прошлом году вышел его сборник с вашим предисловием…
Р. Я.: Хотелось бы спросить в этом контексте ещё про Алексея Ильичёва (1970—1995), поэта, с которым вы были знакомы по студии Вячеслава Абрамовича Лейкина. В прошлом году вышел его сборник с вашим предисловием…
П. Б.: Среди моих близких принято сравнивать Ильичёва с Ходасевичем в каком-то смысле. Но мне иногда его стихи напоминают, например, Шаламова. Для меня есть такое важное понятие в поэзии — «бедный». В отличие от барочных или даже рококошных дел, которыми и я когда-то занималась, где было сплошное «слишком», есть способ сдержанно и строго выбирать слова.
Гибель Ильичёва, как я и сказала в предисловии к его сборнику, это не только личная, человеческая наша трагедия, это такое ощущение пустоты, обрыва текста: как во всех этих случаях, Веневитинов, Коган — ощущение недосказанности, несправедливости, нарушенности судьбы, литературного пути.
Возвращаясь к разговору о самоизоляции: я хочу сказать, что эта весна — она для меня в каком-то смысле время, опять же, очень интимное: я не так много общаюсь, кроме интервью и профессий. Моя жизнь — достаточно семейная: мы много ходим-бродим, тут Новая Англия, болото, пустоши, и для меня каким-то большим событием стало то, что каждый день я вижу и слышу птицу, а вот цапля полетела… Приобретают значение какие-то «недособытия». В мире десятки тысяч жертв, людям предсказывают беды экономические, беды социологические, а я ловлю себя на том, что наблюдаю за цаплей.
Р. Я.: Может быть, нынешняя ситуация — возможность наладить мир с самим собой?
П. Б.: По крайней мере, прекратить этот дикий и бессмысленный постоянный бег. Вот, кстати, к разговору о цейтноте и беге: мне очень интересны все персонажи моей книги о блокадных поэтах, но в каком-то смысле наиболее важной для меня оказалась Наталья Крандиевская, которая в контексте современных форм письма вроде бы не так поражает, как, скажем, Гор или Зальцман. Крандиевская — безусловно, порождение Серебряного века, прелестница, выросшая среди важных фигур этой эпохи. Её знают как спутницу Алексея Толстого. Умная, красивая, живущая с собой в мире женщина, не настроенная на катастрофы, — скажем, очевидно, что Анна Андреевна Ахматова ещё задолго до всего была настроена на катастрофы, её молодая любовная лирика уже катастрофична. Крандиевская — иное, это существо, которое хочет мира и к этому миру очень внимательна. Но получается так, что она оказывается в блокаде. У неё есть там какие-то небольшие преимущества: иногда ей отправляют посылки с Большой Земли, причём не столько Толстой, который давно её покинул, сколько сыновья. Она очень бедствует, чуть-чуть не гибнет. И когда в начале весны её просто умоляют выехать, она говорит: никуда не еду, остаюсь. И весной 1942-го в блокадном Ленинграде она изобретает собственное пространство себя. Она, что тоже очень интересно, в связи со своим браком перестала писать на много лет, но во время блокады она снова пишет. И это такие, на мой взгляд, спокойные стихи человека, желающего внутреннего комфорта. Но при этом она человек очень честный — и знающий, что публиковать это нельзя. Это получается такой дневник блокадного быта умницы, красавицы, которая очень настроена на жизнь, в отличие от Гора, который весь в блокаду про небытие. И в этом смысле Крандиевская оказалась мне мила — своей констатацией того, что перед нами не ад, а если ад, то по нему ходит человек со своим приватным фонариком и очень осторожно его рассматривает. Потому что гений Гора — это проклятье: мы бесконечно счастливы, что он у нас есть, но не дай Бог им быть никогда. В то время как линза Крандиевской — это что-то очень человеческое.
Р. Я.: Хочу спросить о ваших отношениях со смертью. Какова идеальная смерть? Лучший способ умирания? Что вы думаете про болезнь перед смертью? Наверняка вы об этом много размышляли…
П. Б.: Думала. И пришла к выводу, что как каждому даётся собственная жизнь — так и собственная смерть, это несравнимо. Так же, как чужой любви, так и чужой жизни нельзя завидовать, потому что не знаешь, что там на самом деле. Про болезнь — кого-то она делает мужественнее, а кого-то — хрупче, уязвимее, жальче. Это как-то связано со всем остальным существованием человека. Гриша Дашевский был калекой, но он был при этом самым сильным и прекрасным калекой в нашем кругу, нашим вожатым, если угодно: и его хрупкость оказалась связана с его силой и его красотой.
Как Чехова или Бродского нельзя понять вне их болезней, так и тут. Интересно, что в культурном контексте о нём так много говорится, а об этом не говорится, мне кажется, есть великий ханжеский российский культ бестелесности.
Так как я провела свою юность в Америке, ухаживая за инвалидами, у меня отношение к этому изменилось. Они, сами инвалиды, хотят говорить очень много об этом — об особенностях их жизни, не хотят стыдливого якобы молчания. Мне кажется, об этом важно говорить, о связи тела с душой. Кстати, тут мы с Оксаной Васякиной недавно прошлись по получившей Пулитцеровскую премию недавно вышедшей биографии Сьюзен Зонтаг: она на меня произвела огромное впечатление злобностью, с которой автор биографии третирует своего персонажа. Он собрал о ней огромное количество материала — и среди прочего меня поразило то, что многие пишут о том, как Зонтаг была далека от собственного тела; что она жила жизнью духа и ума, а до тела доходило, видимо, когда доходило до наркотиков…
Р. Я.: Тоже отдельная тема. Один мой знакомый поэт и друг говорит, что телесность все обсуждают, между тем, о наркозависимости почему-то меньше: то ли потому, что тема уже отгремевшая раньше, в 90-е, то ли почему-то ещё…
П. Б.: Всё это исчезает во множестве табуированностей. Я полагаю, что после этой весны — а весной явно дело не ограничится, — наши мысли о теле и духе будут всё ещё с нами. О том, как какой-то вирус — маленький и невидимый — взял и всё нафиг исказил, изменил, стёр. Я ежедневно оплакиваю какие-то замыслы, конференции и ещё Бог знает что… Просто всё исчезло, просто какой-то ластик прошёлся. И, опять же, возвращаясь к разговорам об истории блокады, — речь о связи тела и духа. Собственно, блокада не что иное, в первую очередь, как голодная болезнь, спровоцированная тоталитарными режимами.
Р. Я.: Вы затронули тему негласного запрета на разговор о телесном. Ведь это же было при Советской власти: хотя многие художники не работали в русле соцреализма и не боялись изображать изуродованное войной тело человека (например, Гелий Коржев с циклом «Опалённые огнём войны»), на парады допускались только здоровые люди. Наверное, нам до сих пор довлеет эта советская традиция.
П. Б.: Ну да, «в СССР секса нет», в СССР смерти нет, старости нет, вообще тело есть только из мрамора. И ещё долго мы будем пожинать плоды советского наследия. Мы пытаемся, но как-то всё не всерьёз, заниматься советским как цивилизацией со своими законами бесконечными, правилами, ритуалами. Большой частью этой беседы будет разговор о телесном и бестелесном. Очень интересно этим занимался Вадим Басс, доцент факультета истории искусств Европейского университета в Санкт‑Петербурге: он смотрел на проекты памятников блокады, которых было много и проходили конкурсы, и наблюдал за превращением памяти в памятники. Мы знаем, какие памятники победили, возле одного из них в Питере я выросла. И что меня там поражает — что дистрофическое тело нигде не показывается, это, собственно, к разговору о табу. Искажённое историей тело — это то, что оказалось скрыто лучше всего. И так получается, что, как мы знаем из всех исследований по готике, то, что скрыто на чердаке, или в подвале памяти, всегда будет нас преследовать. И в 2020 году мы снова понимаем, как многое не выпущено, не высказано, не рассказано, не проработано. И пока это не проработано и не выпущено на свет, это будет с нами в качестве кошмара. Такого кошмара, когда в «дни блокадной памяти» горожанам градоправители раздают гречневую кашу…
Ещё на этапе работы с книгой о блокадных поэтах у меня была идея назвать книгу по мотивам первой реакции читателей. (Реакцией было отвращение.) Но потом я подумала, что в 44 года уже не надо напрашиваться на простодушный скандал, хватит. Поэтому я просто посвятила всё предисловие этой проблеме — отвращение как отворачивание, как нежелание смотреть, и постоянно мучающий нас вопрос, что же делать, как же найти язык и понять, что именно когда смотришь, не так страшно. Страшно когда не смотришь. Это как в детском сне: пока ты думаешь, что у тебя под кроватью чудовище, то особого комфорта нет, а когда ты заглядываешь и понимаешь, что там только пыль и тапочки, этот ужас проходит.
Р. Я.: «Заглянуть в глаза чудовищ». Такой девиз в искусстве — не бояться ни прежних, ни сегодняшних чудовищ.
П. Б.: Я думаю, это хорошая концовка для беседы.
Р. Я.: Спасибо вам, Полина!
Спасибо за то, что читаете Текстуру! Приглашаем вас подписаться на нашу рассылку. Новые публикации, свежие новости, приглашения на мероприятия (в том числе закрытые), а также кое-что, о чем мы не говорим широкой публике, — только в рассылке портала Textura!




