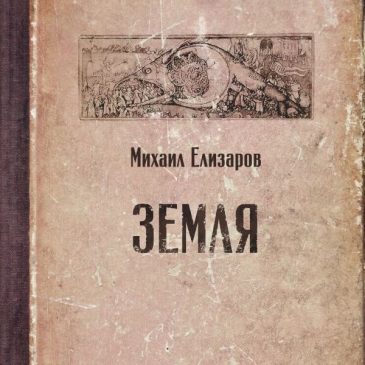Михаил Гундарин и Филипп Хорват о книге Михаила Елизарова «Земля»
Михаил Елизаров, «Земля». Москва, АСТ, 2019

Гундарин Михаил Вячеславович (1968 г.р.) Закончил факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. Работал в медиа, преподавал. В настоящее время заведующий кафедрой рекламы, маркетинга и связей с общественностью РГСУ (Москва). Кандидат наук (специальность «социальная философия»), доцент. Автор нескольких десятков работ по теории и практике коммуникаций. Как поэт, прозаик и критик публиковался в журналах «Знамя», «Новый Мир», «Дружба народов», «Урал» и мн. др. Член Союза российских писателей и Русского ПЕН-центра.
На глиняных ногах
1.
Огромная книга Михаила Елизарова сделана крепко и расчетливо. Расчет есть даже в том, что она так велика, почти 800 страниц: одно дело изящная глиняная безделушка на рабочем столе, и совсем другое величественная статуя. Колосс Родосский. Производит впечатление и на публику, и на критиков, и на премиальные жюри. Конечно, поговорка гласит: «лучше маленькая собачка, чем большой таракан». Но это относится все же к живым существам. К живым книгам, в конце концов. У Елизарова книга неживая. Это такой проект, и проект, судя по всему, успешный. Однозначно «Земля» будет во многих премиальных списках сезона — уже есть. Думаю, и получит награду. С некоторой точки зрения, вполне заслуженно.
Напрасно мы бы стали искать в романе Елизарова философских глубин, психологической убедительности, наконец, занимательных перипетий или красот слога. У «Земли» глубин нет; она — фигура, состоящая из одной поверхности. Глиняной или земляной, отшлифованной и покрашенной местами, повторюсь, очень ловко и мастеровито.
Причем это не является недостатком, это, так сказать, имманентное свойство данного текста. Чтобы понять, возьмем в чем-то соприродную елизаровской книге, известную всем картину Эрика Булатова 1975 года «Слава КПСС». Напомню: на фоне голубого неба и белых облаков красными буквами, занимающими практически все пространство работы, написано — вот именно это и написано. То есть работа, по сути, состоит из своего названия. Можно разглядывать облачка на заднем плане, спорить о том, к какому виду облачности они относятся. Можно производить анализ шрифта, которым сделана надпись. Точно так же можно искать (и находить, как делают коллеги — зря я сказал о напрасности таких поисков!) красоты и глубины в романе Елизарова. Хотя это тоже книга, состоящая из одного названия. Все 800 без малого страниц могли бы быть заполнены одним словом. Земля. Ну разве что еще можно было бы добавить эпитет: могильная. Потому как земля имеется в виду прежде всего эта.
В общем, таким проектом нас не удивить. Вот только к литературе подобное актуальное искусство прямого отношения не имеет. Это своего рода лингвистический акционизм, постконцептуалистский жест. Не рассматриваем же мы чисто с литературной точки зрения «Мифогенную любовь каст». То есть и у Пепперштейна можно найти и психологию, и философию (да их и в трамвайном билете хоть отбавляй) — но стоит ли дурака валять?
2.
Да и что удивительного: 47-летний Михаил Елизаров начинал с рассказов в традициях Владимира Сорокина. Рассказы строились на одном приеме, как и у Сорокина — иногда получалось очень остроумно (сборник «Ногти», 2001). Буквализация метафор, обманутые ожидания, стилевой коллапс и все такое. Потом был премиальный роман «Библиотекарь» — он строился, по сути, тоже на одном приеме-парадоксе (представители тишайшей профессии оказываются убийцами; страсти кипят там, где они кипеть вроде бы никак не могут). Это, в общем, уже смущало. Шутка затянулась и перестала быть остроумной. Потом было много разного, в том числе вполне традиционные рассказы, которые — о чудо! — можно было назвать и психологическими, и даже душевными (сборник «Мы вышли покурить на 17 лет», 2012). То есть, может, и это было всего лишь ловкой имитацией, но публика приняла все за чистую монету. Да и я, например, тоже. Но ведь и сам Елизаров заявлял, что эти рассказы написаны чернилами «из другой чернильницы», не той, которая породила его постконцептуалистские опыты. Для «Земли» он достал чернильницу прежнюю.
Огромная «Земля» стоит, как футуристический город у Маяковского, «на одном винте», на одной теме. Это тема смерти. Прежде всего в ее погребальном изводе. И да, «земля» тут имеется в виду могильная, но как бы с намеком на всю нашу планету.
Герой-повествователь с самого детства погружен в кладбищенскую тематику. Он устраивает кладбище насекомых, пытается похоронить ласточку, в стройбате копает могилы, его возлюбленная татуирована кладбищенским символами, даже ее духи формой флакона напоминают похоронного агента. Ну и работает герой в кладбищенском бизнесе, само собой. Мир дан с точки зрения «крота» — того, кто копает могилы. Может ли быть в таком мире что-то, кроме смерти?
Только самый наивный читатель может принять всё это за реализм. Повествование, ведущееся от первого лица, демонстрирует вполне клиническую картину зацикленности на одной проблематике, шизоидного мировосприятия (сплошной анализ без признаков синтеза)… Герой постоянно рассуждает (по тону — бубнит, «бобок», «бобок», «бобок) на кладбищенскую тематику, автор находчиво и без устали находит соответствующие сюжетные повороты и пристегивает дополнительные смыслы по теме. Тут и про закат цивилизации, и про потусторонний мир, и про социальную несправедливость. И про сатанистов из Единой России, например. Кладбище становится глобальной метафорой, довольно навязчивой и уж точно не новой.
Но это не картина болезни героя-рассказчика. Диагноз куда глобальнее. «Танатопатия» — так называется завороженность смертью, которой больна вся современная массовая культура. И Елизаров, приводя бесчисленные смертно-кладбищенские примеры, доводя тему до абсурда, безбожно преувеличивая, выступает в функции сатирика. Высмеивающего ту самую глобальную танатопатию. Да, в «Земле» много иронии. Мы говорили про бормотание главного героя — но оно, к счастью, не монологично. Книга заселена густо. И автор прекрасно стилизует суждения всевозможных действующих лиц, детей, подростков, солдат, бандитов… и само повествование стилизовано то под триллер, то под производственный роман, то под скучную монографию. Собственно авторский голос не слышен — автор говорит тысячью голосами одновременно. Чтобы вмещать в себя все эти стилизованные фрагменты, язык намеренно стёрт, обезличен, а с другой стороны, полон вполне уместных клише и жаргонизмов (вполне естественно смотрятся и нецензурные выражения). Вот, например, «кусок монографии»: «Годы спустя вдумчивые мои наставники разъяснили, что прежде кладбища, помимо основной функции, создавались и сознавались как функции памяти. Нынешние же, вынесенные подальше за городскую черту, повторяют только внешний принцип изоляции мертвого, но мотивация их принципиально иная». А вот слово дается персонажу из народа «Ну, стройбат, — утешал Семён. — Зато не будут дрочить со строевой подготовкой. Профессию получишь. Главное, не бойся ничего. В армии кого не любят: ссыкливых, жадных, — он загибал для наглядности пальцы. — Чушканов очень не любят. Поэтому следить за собой надо, мыться, чиститься… Стукачей… Видишь — всё не про тебя! Ты нормальный пацан, не бздливый, я ж тебя ещё с лагеря помню, когда на кладбище ночью бегали…»
Огромный том читать любопытно (что ещё автор выдумает, как развернет тему, какой повод отыщет вновь сказать «о своем», как уколет, посмеётся над штампами). Но все же скорее скучно — линейный сюжет разворачивается уж очень долго и однообразно. В полном соответствии с авторской задумкой, надо полагать. Конечно, для того чтобы удерживать ткань повествования от распада, чтобы глиняная поверхность не рассыхалась и не трескалась, нужно недюжинное мастерство, не говоря об усидчивости. Елизаров таким мастерством владеет вполне.
Что же до танатопатии, то она регулярно возникает в культуре. Вспомним хотя бы Серебряный век, например, Федора Сологуба, едко высмеянного Горьким под именем литератора Смертяшкина. Но благодаря такой периодичности мы понимаем, что культуру может излечить или война, или страшное бедствие, вроде пандемии, подобной нынешней. Когда шутить на тему смерти станет (и уже стало) как-то непристойно. Увы, «Земля» много от этого потеряла. Многое уже просто не смешно.
Само собой, Елизаров «не виноват». С другой стороны, не зря же говорится «не буди лихо…». Мертвецы, их насильственные и ненасильственные смерти, густо заселяющие прозу Елизарова, с самого начала шокировали, провоцировали, эпатировали и т. п. Черного юмора было выше крыши. И не у него одного, конечно, в бесчисленном множестве книг, фильмов, комиксов…. Ну вот и допрыгались.
3.
Но почему же обязательно сатира? Разве нет в «Земле» попыток философского обобщения, социально-психологического исследования феномена смерти? Я уже говорил: жанр не тот. Это вам не реалистический, да хоть бы и (пост)модернистский роман. Это высказывание другого рода, и предъявлять к нему чисто литературные требования неверно.
Обиднее другое. Сам культурный жест у Елизарова вышел каким-то неинтересным и банальным. Сравните, как размышляли и писали о смерти обэриуты (думаю, для Елизарова художественный опыт Введенского и Хармса весьма важен). Французский исследователь Ж-Ф. Жаккар убедительно, на мой взгляд, показал, что для них смерть, несущая подлинный ужас, была плотно увязана с темой остановки времени, прекращения всякого действия. Проза Хармса — это «проза-нуль», в которой нарративность теряет внутренне содержание, становится мнимой. Поэтому, пишет Жаккар, тексты Хармса «часто представляют собой аккумуляцию зачинов. Это все равно, что, двигаясь от нуля, пробиваться к единице, до которой невозможно добраться». Легко вспоминается множество прозаических миниатюр автора «Старухи», где вроде что-то начинается, но не заканчивается абсолютно ничем, фабульные двери не ведут никуда. Срабатывает блестяще. Хармса читать жутко — в его фрагментах словно есть знание о смерти каждого из нас. Этот «цисфинитный» Танатос (бесконечность, выраженная в форме нуля, любимая «фишка» Хармса) дает столь же бесконечные возможности для философского, социокультурного анализа и диспута любой глубины. А «Земля» — увы…
Взявшись писать «Землю» как роман, причем роман большой, толстый, «настоящий» Елизаров утратил возможность для радикального высказывания. Некогда о Русском Танатосе всерьез говорить: пока всех персонажей по местам расставишь, уж и книга на семисотой странице… Вот и приходится, рассуждая о «Земле», говорить лишь о сатире, имитации идиостилей и т. п. Вспоминается еще одна поговорка — про колосса на глиняных ногах. А если он глиняный да земляной с ног до головы, рано или поздно обязательно рухнет, рассыплется, забудется. Ну так прах к праху.

Филипп Андреевич Хорват — писатель, книжный блогер, литературный обозреватель. Родился в 1983 году в Ташкенте Узбекской ССР. Окончил Санкт-Петербургский государственный Политехнический университет по специальности менеджмент и управление. Публиковался в журналах «Новый мир», «Бельские просторы», «Полутона». Живёт в Санкт-Петербурге.
Родит ли русская земля homo postsovetikus?
Если меня разбудят через сто лет и спросят, какие, по моему мнению, писатели поддерживали постмодернистский небосвод русской литературы с девяностых двадцатого и по двадцатые годы двадцать первого века, я назову три фамилии: Сорокин, Пелевин, Елизаров.
Не то чтобы атланты изящной словесности, но… Двое из них сначала ударно выжигали, затем контурно очерчивали тренды, а ныне штришками обрисовывают мелкие детали своих творческих вселенных. Третий же, кажется, до сих пор стоит на страже, зыркая мрачным глазом в сумрачную даль, будто пытаясь нащупать что-то неподвластное, волнующее, непонятное до сих пор и ему самому.
Третий — это, без сомнения, Михаил Елизаров, чью увесистую «Землю» даже обзорной критикой поливать-обихаживать не надо, — сама даст плод свой, объяснит нам, постсоветским, всё про всё и про нас самих.
Почему, к примеру, земля? Кладбищенская тема — это рюшечки, тематическая окантовка русско-советского характера, который как ни прячь под солидным монолитом надгробия, всё равно оседает под сапогом ненадёжностью, вёрткостью, складываясь в подобие грязной дули. Тут очень кстати отсылка к Платонову в эпиграфе книги — «Земля пахнет родителями».
Народ в елизаровском романе представлен архетипическими персонажами. Есть, например, мятущийся, вечно бегущий от жизни и от бытового лицемерия отец главного героя, интеллигент в сотом поколении, единственный страх которого — превратиться в глазах окружающих людей в «посмеш-ш-шищ-ще». Есть брат героя — браток, выросший в бизнесмена, но умом и повадками оставшийся в 90-х. Его антагонист — Аркадий Гапон, больничный завхоз, который криминальной рукой «держит» под контролем чуть ли не весь кладбищенский бизнес небольшого города. Из женских образов — отвязная стерва Алина, повёрнутая на метафизике мёртвого. И едва намеченный, мерцающий пока что в стороне от основного повествования образ медсестры Маши — вроде бы светлый символ женственности.
Главный герой — Володя Кротышев — добросовестно выведен Елизаровым в образе бредущего по своей особой жизненной колее ученика, постепенно крепнущего внутренней силой и вместе с тем возвышающегося социально. Лейтмотив прогрессивного ученичества с неизбежным подражанием в романе подчёркивается специально, за счёт приёма лёгкого отстранения героя от своей естественной натуры:
«Я пребывал в мрачном восторге от себя. Даже позабыл, что вся эта броская мертвечинка, в общем-то, украдена у Алины».
«Кладбище — это аттракцион для создания мороков смерти, рукотворный Deathнейленд!.. — мне хотелось как можно ярче воспроизвести подслушанный за дверью «оксфорд» Глеба Вадимовича, но прозвучало как пародия на его излишне старательное произношение».
Далее герой начинает понемногу озвучивать и собственные мысли — растёт Кротышев, крепнет в интеллектуальных исканиях:
«Я более или менее помнил, как объясняла гипохранию Алина, но почувствовал, что сейчас понимаю всё совершенно по-другому, и это уже полностью моя оригинальная мысль и догадка».
Путь героя из неофита в крупного кладбищенского управляющего, главного по мертвецам (с учётом того, что «Земля» — это первая часть вроде бы дилогии, думаю, автор к этому Кротышева и приведёт), — как мне кажется, единственно возможный для такого постмодернистского романа. Именно постмодернистского, поскольку приём возвышающего дао, с заглядыванием под изнанку видимого мира, часто использовали те же Пелевин с Сорокиным (ну, навскидку, «Generation П» Виктора Олеговича и «Тридцатая любовь Марины» Владимира Георгиевича). Смысл приёма не только в постепенном наполнении внутренним содержимым героя, но и в изложении концепции, главной идеи произведения, того, ради чего, собственно, автор пустился в романный пляс.
Для понимания идеи «Земли» нужно, конечно, учитывать мировоззренческий бэкграунд самого Михаила Елизарова. Сформулировать в нескольких словах его можно так: ностальгия по советскому проекту. Елизаров нигде и никогда, ни в одном более или менее серьёзном интервью не скрывает этой самой ностальгии. СССР — потерянный рай, утрата которого привела к потере и того идеального человека, населявшего Эдем.
Любопытно, что в общей и довольно многословной танато-философии «Земли» обрисовывается и символический процесс умирания советского проекта:
«Суть в том, <…> что если мы приложим эту метафору к нашему времени, то увидим, что Российская Федерация и всё постсоветское пространство — это труп СССР, который попутно является трупом Российской империи. Такие мёртвые матрёшки геополитических субъектов. Развалится нынешняя Россия, тогда мы окажемся в её трупе, то есть, фигурально выражаясь, умрём во что-то новое, перейдём из одного тела в другое, из смерти в смерть…».
Но кто же вместо советского человека населяет этот трупа трупа, согласно Елизарову? Да вот Кротышев, выведенный автором в виде общего символа homo postsovetikus, теперь и населяет. Только прежде, чем стать полноценным, сформировавшимся во всей своей, так сказать, «красоте» гражданином новой страны, ему нужно повзрослеть, обрести суть — это и есть то дао, которое рисует с дотошной бытовой детализацией автор.
Для определения той точки, в которой оказался после смерти СССР формирующийся постсоветский человек, Елизаров подтягивает тяжёлую артиллерию философии, переданную большей частью через матершинные присказки и как бы шутливые метафизические парадоксы (тоже типичный приём русского постмодернизма). Попробуем вычленить основное из громадной, многостраничной беседы Кротышева с Гапоном и его старшими товарищами, московскими коллегами по кладбищенскому ремеслу:
«Бытие-к-смерти, или умирание, как всякий процесс, предполагает наличие времени <…> Но когда движение прекращается, наступает состояние покоя. И правда, а не метафора в том, что Советский Союз действительно умер, а те, кто его населял, поневоле очутились в его трупе.
<…>
Время — субстанция, которая в темпоральной конфигурации прошлого преобразуется в тела. Не будет ошибкой сказать, что пространство — это загустевшее время.
<…>
Тот, кто мыслит смерть, бонусом получает точку локализации во времени и пространстве. Хотя бы в границах тела думающего её индивида. Так смерть становится событием, имеющим место.
<…>
Точно так же следует различать смерть мёртвых и смерть неживых. Неживой не равен мёртвому. Умерший — тот, кто перестал жить. То есть это жизнь, которая больше не жива. И есть смерть, которая и не была никогда жива….
<…>
— Вы сказали, что покойники находятся в безвременье. Но безвременье — это просто субъективно воспринятое время. Всякое ощущение остановки или движения — это просто субъективно воспринятое время. Всякое ощущение остановки или движения — личный опыт. Принято говорить, что время течёт. Но оно может стоять, и скопление замершего времени легко принять за его отсутствие».
На первый взгляд, все эти около- и псевдофилософские умствования выглядят как галиматья, передоз философским словарём студента-гуманитария. Думается, однако, что эта цепочка рассуждений передаёт личную мировоззренческую концепцию Елизарова, положенную в основу «Земли». Выглядит она примерно так: живущие в теле мёртвого СССР умершие (те, кто перестал жить) застыли в некоем безвременье (или времени, которое встало). В этом-то «безвременье» временно и застыл постсоветский Кротышев на всём протяжении 90-х — нулевых годов, но он не просто застыл, а, как было отмечено выше, потихоньку растёт, вырастает внутри себя, табула раса его личности постепенно наполняется некими важными, символическими письменами, в соответствии с которыми он вскоре начнёт действовать уже как самостоятельный субъект.
В этом смысле «Земля» интересна тем, куда, собственно, постсоветский Кротышев придёт по воле автора в следующей части романа, который нынче только пишется. Можно было бы предположить, что у Елизарова уже есть план развития личности героя, он, возможно, чётко видит ту конечную точку, где постсоветский человек, наконец, перерождается в кого-то, чья производная не требует в формуле составной sovetikus.
Однако более реалистичным представляется, что, на самом деле, не знает этого и Елизаров. Финал первой части дилогии застывает примерно где-то в промежутке 2008-2010 годов, и окончательное становление Кротышева приходится, видимо, уже на ту современность, в которой мы живём. Чуткий к веяниям времени человек скажет, что действительно — сейчас мы подошли, кажется, к тому рубежу, который окончательно отделит постсоветское безвременье от чего-то иного, хочется верить — нового и прогрессивного. И вся интрига с новым романом Елизарова, пожалуй, заключается в следующем: сможет ли писатель максимально точно и достоверно обрисовать абрис обрубившего свой постсоветский хвост человека?
Спасибо за то, что читаете Текстуру! Приглашаем вас подписаться на нашу рассылку. Новые публикации, свежие новости, приглашения на мероприятия (в том числе закрытые), а также кое-что, о чем мы не говорим широкой публике, — только в рассылке портала Textura!