Сергей Оробий
Критик, литературовед. Кандидат филологических наук, доцент Благовещенского государственного педагогического университета. Автор ряда монографий. Печатался в журналах «Знамя», «Октябрь», «Homo Legens», «Новое литературное обозрение» и многих других.
Обзор книжных новинок от 29 ноября 2018 года
Герои этого обзора – режиссёр Герман, писатель Толстой, академик Иванов и бунтарь Лимонов – сами рассказывают о себе.
Всё связано со всем
(Антон Долин. Герман. Интервью. Эссе. Сценарий. – М.: Новое литературное обозрение, 2018)
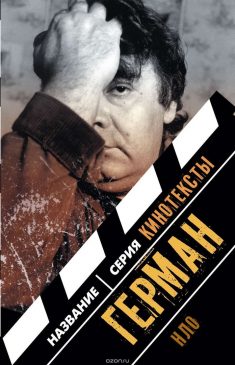 Кинокритик Антон Долин провёл с Германом несколько многочасовых бесед, а потом собрал их в книгу: получилась история жизни. Разумеется, невымышленных историй сейчас пруд пруди, не редкость и «монологи от первого лица», и «преждевременные мемуары» (вспомните лунгинский «Подстрочник», прозвучавший гораздо громче, чем «Герман»). Но книгу «Герман» надо читать, даже если вы не поклонник этого режиссёра. Надо читать прежде всего потому, что её автор – очень умный. Не смейтесь, это редкое качество. И не просто умён, а умный и точный рассказчик, он говорит историями: про себя самого, про отца, про Ленинград, про военное детство, про оттепельную юность, про актёров, про съёмки, про советский кинематограф, который мог быть дурацким, а мог быть гениальным. Десятки историй и сотни деталей – забавных, страшных, редких, никогда не скучных. Удивительная цепкость взгляда, точная оптика – то качество, что роднит и режиссёров, и писателей. В какой-то момент книга про кино превращается в первоклассную литературу.
Кинокритик Антон Долин провёл с Германом несколько многочасовых бесед, а потом собрал их в книгу: получилась история жизни. Разумеется, невымышленных историй сейчас пруд пруди, не редкость и «монологи от первого лица», и «преждевременные мемуары» (вспомните лунгинский «Подстрочник», прозвучавший гораздо громче, чем «Герман»). Но книгу «Герман» надо читать, даже если вы не поклонник этого режиссёра. Надо читать прежде всего потому, что её автор – очень умный. Не смейтесь, это редкое качество. И не просто умён, а умный и точный рассказчик, он говорит историями: про себя самого, про отца, про Ленинград, про военное детство, про оттепельную юность, про актёров, про съёмки, про советский кинематограф, который мог быть дурацким, а мог быть гениальным. Десятки историй и сотни деталей – забавных, страшных, редких, никогда не скучных. Удивительная цепкость взгляда, точная оптика – то качество, что роднит и режиссёров, и писателей. В какой-то момент книга про кино превращается в первоклассную литературу.
Читая её, начинаешь понимать киноязык Германа. Александр Гаррос писал о режиссёре, что тот «пытается сделать пространство экрана равновеликим пространству жизни, превратить мимолётное отражение мира – в сам мир, наполнив его бесконечным множеством предметов и сущностей. Просто предметов и просто сущностей, а не метафор и не символов. В живой жизни ведь нету ни символов, ни метафор. Только бесконечное множество простых вещей – но находящихся друг с другом в бесконечно сложной взаимосвязи».
Сразу приходит в голову пассаж из шишкинского «Письмовника» про перспективу («Смотри, перспективой держится мир, как картина верёвочкой, подвешенной к гвоздику. Если бы не тот гвоздик и верёвочка – мир бы упал и разбился»). Или рассуждения героя «Побега куманики» Лены Элтанг: «…связи между вещами не сразу ощутимы, они прощупываются потихоньку, однажды ты узнаёшь о связи бумажного веера с войной, ягнёнка с огнём, а щегла с кровью христовой, и не удивляешься: это ведь на поверхности! просто ты об этом не думал! Вещи состоят из мыслей, как люди из воды».
Думаю, речь у Гарроса не только о киноязыке, но и о языке прозы. Такой, например, как «Герман».
Иванов и времена
(И Бог ночует между строк. Вячеслав Всеволодович Иванов в фильме Елены Якович. – М.: Corpus, 2019)

Журналист Елена Якович в 2016 году создала на основе бесед с академиком Ивановым документальный сериал «И Бог ночует между строк», а потом сделала на основе этого сериала книгу-монолог. Иванов рассказывает о себе, эпохе, современниках и загадках мирового духа; истории перемежаются его стихами, не яркими, но трогательными. Пожалуй, самая милая черта этих рассказов – фирменный ивановский name dropping: кажется, прожив мафусаилов век, академик всех видел и со всеми побеседовал, даже в глубоком детстве: «Родители брали меня на какие-то званые приёмы к Горькому… И меня предупреждали, чтобы я не бегал по второму этажу, потому что там кабинет Горького. И конечно, я побежал, и помню, что меня вытащили из его ярко освещённого кабинета. И самого Горького тоже помню. Понимаете, мне три года…».
При жизни Иванова его страсть упоминать про встречи с великими была предметом иронии в научной среде. Sub specie aeternitatis эти воспоминания выглядят уже иначе: кто ещё в наши дни может непринуждённо упомянуть лично виденного им Горького?
Толстой в клетке текста
(Ирина Паперно. «Кто, что я?»: Толстой в своих дневниках, письмах, воспоминаниях, трактатах. – М., 2018)
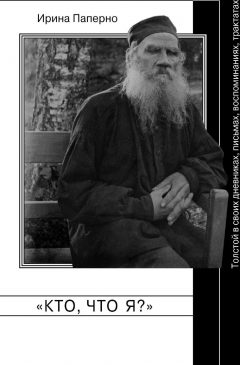 Самая важная книга о Толстом в юбилейный для него год. Обманчиво нейтральный заголовок маскирует интереснейшую попытку литературоведческой ревизии. Прежде всего, опровергается устоявшаяся точка зрения, согласно которой толстовские дневники – это только творческая лаборатория, где вызревали шедевры вроде «Анны Карениной». Напротив: дневники, «Исповедь», откровенная переписка со Страховым, автобиографические заметки, трактат «Так что же нам делать?» – всё это попытки Толстого создать особый нарратив: повествование, адекватное по структуре самому процессу бытия. И это, по мысли Паперно, было главной толстовской целью, не столько литературной (едва ли не в последнюю очередь литературной), но философской и религиозной. Молодой Толстой хотел превратить хотя бы один день своей жизни в книгу (так появилась «История вчерашнего дня»), быстро осознал ограниченные возможности такого повествования – а затем перешёл к рассуждениям об ограниченности понятия «я» в целом: тут-то и началось самое интересное…
Самая важная книга о Толстом в юбилейный для него год. Обманчиво нейтральный заголовок маскирует интереснейшую попытку литературоведческой ревизии. Прежде всего, опровергается устоявшаяся точка зрения, согласно которой толстовские дневники – это только творческая лаборатория, где вызревали шедевры вроде «Анны Карениной». Напротив: дневники, «Исповедь», откровенная переписка со Страховым, автобиографические заметки, трактат «Так что же нам делать?» – всё это попытки Толстого создать особый нарратив: повествование, адекватное по структуре самому процессу бытия. И это, по мысли Паперно, было главной толстовской целью, не столько литературной (едва ли не в последнюю очередь литературной), но философской и религиозной. Молодой Толстой хотел превратить хотя бы один день своей жизни в книгу (так появилась «История вчерашнего дня»), быстро осознал ограниченные возможности такого повествования – а затем перешёл к рассуждениям об ограниченности понятия «я» в целом: тут-то и началось самое интересное…
XIX столетие было веком литературы par exellence, а Толстой – едва ли не главным его символом, но в этом исследовании нам явлен не романист, а заложник слов, машина письма, стремящаяся взломать матрицу: описать «я», одновременно выйдя за его пределы. В таком ракурсе многие известные факты выглядят по-новому. Так, вы почувствуете всю глубину уничижительной самооценки «Войны и мира» как «многословной дребедени» (и вряд ли после этой книги будете воспринимать эти слова как толстовское кокетство). А знаменитый пассаж об «Анне Карениной» («Если бы я хотел словами сказать всё то, что имел в виду выразить романом…») и вовсе трактуется Паперно как признание в неспособности ясно выразить свою мысль: «В это время ему хотелось не продолжать сражаться с мучительными трудностями художественного выражения, а обратиться к другому методу – такому, как метод истинной философии, который позволил бы ему сказать то, что он хочет, и найти такую форму, в которой “убедительность достигается мгновенно”», пишет исследователь.
Книга Паперно на три четверти состоит из толстовских цитат, что превращает исследование в психологический квест: в какой-то момент вы вживаетесь в поток толстовских мыслей о природе сознания, снах, жизни и смерти – мыслей противоречивых, мучительных, изматывающих. Однако в финале вас ждёт катарсис, поскольку Толстому, как ни странно, всё-таки удалось осуществить свою Книгу книг, которую можно прожить, написать и прочитать одновременно.
Щука и караси
(Эдуард Лимонов. Свежеотбывшие на тот свет. – СПб.: Питер, 2019)

Первая книга, датированная 2019 годом, но при этом обращённая в прошлое. Начатый в «Книге мёртвых» антимартиролог Лимонов превратил в сериал, причём остросюжетный. Новые серии – про Немцова, Распутина, Джемаля, а также Дороти, Лорда, Каперанга, Виктора Иваныча и т.д. Не всякий писатель может похвастать тем, что реформировал целый жанр. Русская культура в основе своей пасхальная, трагично-поминальная – Лимонову же с его специфическим взглядом на то, какими должны быть «жизнь и творчество», удалось взломать эту матрицу.
По нынешним литературно-вегетарианским временам он один такой. Этим летом вспоминали Виктора Топорова: пятилетие со дня смерти. У Лимонова он в предыдущей «Книге мёртвых», и сейчас, когда Дед остался в одиночестве, стало особенно ясно: типаж-то один, они с Топоровым те щуки, с которыми литературные караси не дремлют («Писатели мне далеки. Они наводят на меня уныние. Я уж лучше с девками и парнями», ухмыляется Лимонов в главе про Распутина). За эти пять посттопоровских лет литература стала нервной, лайкозависимой, но весь фейсбучно-исповедальный хайп не перевесит самого короткого из лимоновских некрологов. Ни у кого больше нет такой смеси наглости и обаяния, такого сочетания безудержного нарциссизма и трезвой аналитики, ни у одного фейсбучного остроумца фраза так не звенит. Когда Дед помрёт, отпеть его будет некому.



