Александр Марков
Родился в 1976 году. Доктор филологических наук, профессор (РГГУ, кафедра кино и современного искусства), философ, историк и теоретик культуры и искусства, литературный критик, преподаватель факультета истории искусства Российского государственного гуманитарного университета.
Из третьей тьмы опыта
(О книге: Василий Нацентов. Лето мотылька. — Воронеж: АО «Воронежская областная типография». — 2019. — 80 с. — 350 экз.)
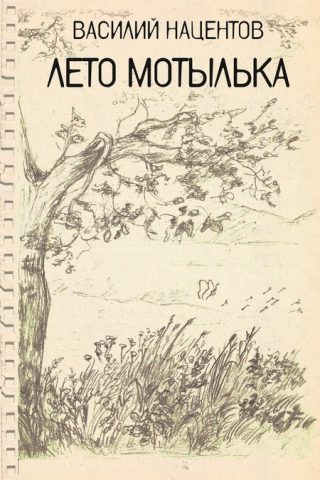 Платон назвал Аристотеля «читателем», оценив внимательность и въедливость своего ученика. Если бы существовала и могла говорить муза русской поэзии, она назвала бы Василия Нацентова читателем, причём не просто пытливым, а умеющим делать выписки и заметки на полях, отмечать главное, прописывать недостаточно сказанное и подбирать изощренные миниатюры для чувств.
Платон назвал Аристотеля «читателем», оценив внимательность и въедливость своего ученика. Если бы существовала и могла говорить муза русской поэзии, она назвала бы Василия Нацентова читателем, причём не просто пытливым, а умеющим делать выписки и заметки на полях, отмечать главное, прописывать недостаточно сказанное и подбирать изощренные миниатюры для чувств.
Семенит и кивает дождь —
на стекле он сутулится.
Мандельштамово слово — дрожь —
птичьим пёрышком до конца.
Казалось бы, просто сравнение, обозначающее образ действия, «птичьим пёрышком» как лёгким движением. Но для Мандельштама уже такое движение могло быть роковым, когда слово может улететь как птица и вернуться слепой ласточкой в чертог теней. Василий Нацентов прибавляет «до конца» и сразу же меняет перспективу: дождь пишет на стекле не очень свободную записку, сутулясь и кивая, не зная толком, что сделать с гладью стекла. Почти мандельштамовское смущение, приписанное дождю, но оно позволяет увидеть в птичьем пёрышке инструмент для письма, выписывающий дрожь как новую большую запись до конца, как протокол защиты поэзии.
Нацентов говорит не только с Мандельштамом, но и Блоком, Гумилёвым, Пастернаком, Арсением Тарковским. Иногда ноты и обертоны разговора сливаются, и тут нам нужны специальные усилия продумывания, как именно двигалось перо или тончайшая кисть иллюстратора:
Я знаю свет далёкого окна,
кривые ветки вечера и груши.
Шумит весна, нездешняя весна,
шумит она, а мне — сидеть и слушать,
Конечно, блоковская весна без конца и без края, и ветки, не то бунинские, не то пастернаковские, смотря как мы мыслим свет далёкого окна, как дальнюю звезду или как экспрессию дачной жизни, когда вечером возвращаешься домой. Но это «сидеть и слушать» — не просто про внимание, а про то, что глаз не поднимешь. Для Блока вслушивание требует насторожиться, в чем-то уже преобразиться, тогда как Нацентов как писец продолжает выводить свои буквы, как оператор осциллографа следить за шумом, за этим анафорическим «шумит… шумит…».
Когда Нацентов хочет зафиксировать, как он конспектирует мироздание, рассказать о подробностях своей техники, ритм меняется: вместо созвучий, повторений, как бы волн речи, волнующих сад и вечер, строки самоотчёта:
электричка ночная
и гремит голубая
от лунного света листва
о полуда и олово
влажная ночь полустанка
разлетится по клавишам
белых бессмысленных букв
Неточная рифма «ночная-голубая», ассонанс «листва-олово», — всё это говорит о том, как прежние поэтические приёмы перестают работать. Гремящая голубая листва — образ блестящий, который вполне можно представить у Губанова, лунный свет возвращает нас в русский модерн, к Брюсову, Бальмонту и Розанову. Только мотивации другие — гремит электричка, и мы просто не должны заметить, как сошли с электрички на перрон, — и где русский модернизм подчеркнул бы опыт порога, там Нацентов оставляет его за скобками. Вот это и есть опыт читателя, а не сочинителя, — не проходить пороговый опыт, а просто ссылаться на книгу или вообще кивать, что он уже много раз всё равно описан. Как только появляется «влажная ночь полустанка», когда мы понимаем, что и лунный свет уже давно исчез, раз дождевая туча заслонила её, и поэтому нужно срочно законспектировать на клавишах, даже не очень понимая, что произошло. Ведь если не законспектируешь, лакуны опыта станут слишком большими.
Да, Нацентов часто обращается и к Блоку, и к Губанову, и к другим, иногда даже полуцитатно. Например, мы встречаем прямое переложение Блока:
О боли, о добре, о сигаретах «Прима»,
о том, что человек уходит налегке,
печально и светло, строкой, полоской дыма,
на ясном и простом, на птичьем языке.
У Блока уход мог репетироваться, и ясно, что «ты ушла из дома», — после того, как порывалась уйти. Блок как поэт, для которого мистические и социальные ритуалы очень важны, не мог просто так говорить об уходе налегке, разве что о легком челноке искусства или лёгкости посмертного бытия. Для него даже уйти не собрав вещи было вовсе не уходом налегке. Нацентов как читатель просто отметил, что на миниатюре уход может быть выражен строкой, подписью, полоской дыма, скажем, домиком на заднем плане, на птичьем языке — нельзя создать хорошую миниатюру, не пририсовав пару птиц или зверей, чей язык понимал премудрый Соломон.
Или вот почти губановские образы, при этом совсем не губановским ритмом, с той меланхолией, которую ни Есенин, ни Губанов, ни Рыжий никогда бы не допустили. Эти поэты были как трубадуры, людьми воображения, вспыхивавшего вопреки настроению. У Нацентова, наоборот, воображение должно сойтись в каком-то настроении:
там по краям чернозёмно-казенного поля
стынут осины, синея на паперти, там
поле — не воля, там поле — то боли, то боя,
капля на почке осенней — ресницам, стогам.
Капля на почке осенней — лиловая, словом
плюхнись в покинутый дом из протянутых рук,
и назовись то ли Божьей слезой, то ли Богом,
и воплотись в голубой торжествующий звук.
Поэт перебирает как каталог «боль… бой… Бог…», чтобы потом перейти к голубому торжествующему звуку, звуку трубы Славы с картины Вермеера или трубящих всадники облаков «на эмали голубой» Михаила Кузмина. Но это не экстатическое торжество, а скорее растянутое впечатление, примерно как мы читаем роман, когда главное с героями уже произошло, но мы дочитываем роман до конца, чтобы понять, как же они осуществились, как же они при всей ограниченности земной жизни торжествуют над временем. Это торжество романного текста, романной композиции, а не торжество вдруг высоко ёкнувшей, как сердце, лирической ноты.
Но лирическая нота и даже лирическая пропись нот в стихах есть. Но не тогда, когда Нацентов подхватывает вдохновение других лириков, и не по завершении курчавой миниатюры. Это происходит тогда, когда поэт начинает говорить напрямую с миром:
Я знаю, как на самом деле было,
как птицы волокли листву чудную,
проворно собирая на лету,
в какую-то иную темноту,
как бы в карман прохожего.
И мир не знал плохого и хорошего,
и поздней осенью не ждали никого.
Я и мир. Но в этом нет притязательности, потому что мир идёт своим путем, а поэт уже прошёл своим путем, успев посмотреть и на ясность, и на темноту жизни. Птицы не просто строят гнезда, они отвечают за листву, за листы книг или шелест листьев, навевающий размышления. Поэтому мы и начинаем доверять поздней осени, потому что о безразличности жизни говорим без презрительности или пренебрежения, без просящегося жеста отчаяния или осуждения, но и без той элегической взволнованности и растерянности, которая слишком ожидаема и не подходит поэтому к словам «не ждали никого». Нацентов здесь выступает как защитник не элегического отношения к миру, а скорее заинтересованности в госте, который придёт не из первой тьмы времени и не из «другой» тьмы размышлений, но из какой-то третьей тьмы опыта, побеседовав на зимней даче о жизни. Здесь лирика вдруг становится пронзительной, если мы научились быть читателями и миниатюристами, и стихи оправдывают дружбу, независимо от того, с кем дальше поведёт разговор сам поэт.
Спасибо за то, что читаете Текстуру! Приглашаем вас подписаться на нашу рассылку. Новые публикации, свежие новости, приглашения на мероприятия (в том числе закрытые), а также кое-что, о чем мы не говорим широкой публике, — только в рассылке портала Textura!



