Андрей Грицман родился в 1947 году в семье врачей. Окончил Первый московский медицинский институт имени И. М. Сеченова. Занимается онкологической диагностикой. Учился на литературном факультете университета Вермонта, получил степень магистра по американской поэзии. Пишет по-русски и по-английски. Стихи и эссе публикуются в российской, американской и британской периодике. Автор пятнадцати книг стихов, эссеистики и прозы на двух языках. Стихи включались в международные антологии, переводились на несколько языков. Издатель и главный редактор журнала «Интерпоэзия» (Нью-Йорк), основатель Международного клуба поэзии в Нью-Йорке.
Андрей Грицман: «Рефлексия – наша профессиональная болезнь»
В издательстве «Воймега» вышла книга стихотворений Андрея Грицмана «Спецхран», включившая стихи примерно последнего десятилетия. О том, как ужас от потери любимой женщины способен перейти в страшные стихи; что такое «гармония биполярности» между поэтом и культуртрегером; почему жизнь – это дорога, которую мы не выбираем, и для чего главный редактор «Интерпоэзии» призывает в стихах писать ему на и-мейл, с автором книги побеседовал Борис Кутенков.
– Андрей, в Вашей книге много топонимов – преимущественно в перечислительном ряду и на русскоязычной почве. Напрашивающийся контекст их присутствия – ностальгия по родным местам, учитывая США как постоянное место жительства автора с 1981 года… Однако ведь не всё так очевидно и просто?
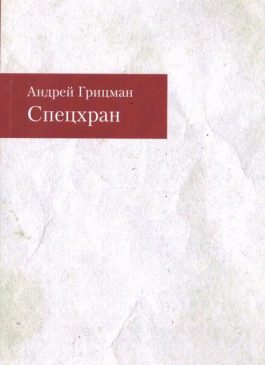 – Ностальгия – в основном по детству и юности – естественна для поэтического творчества. Рефлексия – наша профессиональная болезнь. В книге есть цикл стихов, посвящённый американским городам, и поэма «Ветер в долине Гудзона», вначале опубликованная в «Вестнике Европы». Много нью-йоркских стихов. Поэтому – это и ностальгия по Америке, где я живу почти сорок лет, где выросли дети, растут внуки, где похоронена моя мать. Вообще, перечисление мест, физических реалий – приём, который я люблю.
– Ностальгия – в основном по детству и юности – естественна для поэтического творчества. Рефлексия – наша профессиональная болезнь. В книге есть цикл стихов, посвящённый американским городам, и поэма «Ветер в долине Гудзона», вначале опубликованная в «Вестнике Европы». Много нью-йоркских стихов. Поэтому – это и ностальгия по Америке, где я живу почти сорок лет, где выросли дети, растут внуки, где похоронена моя мать. Вообще, перечисление мест, физических реалий – приём, который я люблю.
Я ни в коем случае не эмигрантский поэт, тоскующий по оставленной родине. Я, как неоднократно упоминал, – русский американец, вполне здесь прижившийся, и живу в двух реалиях: русская культура и американская, в которую я врос. Особенно учитывая то, что я, как теперь определяют, – транслингвальный поэт, или билингвальный. То есть пишу на двух языках – полное раздвоение личности. Хотя, скорее всего, поэт живёт в межкультурном пространстве или находится в движении. Неслучайно моё эссе называется «Поэт в межкультурном пространстве». Да и книга нон-фикшн, изданная в издательстве Руслана Элинина, носит такое заглавие. Подробный и глубокий анализ времени и пространства в моих стихах можно найти в недавнем важном эссе Лилии Газизовой.
– Москва у Вас наделена аж 15-ю эпитетами на протяжении одной строфы: «Прощай, Москва, пельменная, пивбарная / и подворотная, подъездная, морозная. / Базарная, дворовая, бульварная, / вокзальная, зенитная, безъямная. / Безъямная, жетонно-телефонная, /родная, трёхвокзальная, бездомная». Эпитет «безъямная» в этом ряду повторяется дважды. В другом стихотворении о Москве – «Отчёт о поездке» – появляются приметы опасности, просвечивающие сквозь элегически-описательный контекст: «осинный гроб», «край, скошенный полковничьей бритвой», загадочный вывод «Хорошо всё. Людей только жалко»… Какая же она всё-таки – Москва Андрея Грицмана? И меняется ли представление об этом городе по возвращении на родину?
– Перечисление эпитетов хорошо звучит при устных выступлениях, что для меня крайне важно. А «Отчёт о поездке» – редкий для меня пример так называемой политической поэзии, в ней появляется оттенок опасности и настороженности.
Помню светлых, им тесно в осинном гробу.
Запах почвы, пропитанной серой.
Как и раньше, шеренги на запад идут.
Край наш скошен полковничьей бритвой.
Каждый третий ступает по тонкому льду,
и на свору шипит Лжедимитрий.
Поучают детей в ожиданьи татар.
И грозят нам светящейся палкой.
По сосудам плывет маслянистый товар.
Хорошо все. Людей только жалко.
По возвращении на родину моё представление о городе давно уже не меняется. Это было в начале-середине девяностых. На мой взгляд, сейчас всё оформилось, покрылось фасадами и забетонировалось. Моя Москва – это скорее менее изменившиеся места: любимые старые московские переулки, Лефортово, Бульварное кольцо, бывшие Мещанские улицы, где я вырос, Измайлово, где прожил последние двадцать лет, перед отъездом в Америку.
– Кроме тени лирического героя, осваивающего зазеркальные пространства, в книге есть ещё одна «священная тень» – Бродского: на уровне реминисценций («Да теперь и не важно…», «Остановка в пустыне») и общего интонационного следа. Личность Бродского важна для Вас – и не отягощает ли интонационным присутствием?
– Литературные ссылки, реминисценции, цитирования известных строк я вообще люблю включать в тексты. Живём-то «не на облаке», и, если этим не злоупотреблять, здесь можно увидеть смысловую нагрузку. Я всегда говорил, что стихи – это не литература, но и литература тоже, и театр и т.п.
Насчёт интонационного следа Бродского – не знаю. Вам виднее. Я всегда старался, чтобы никто из великих не звучал в моих стихах, не навязывал и не подсказывал. С моей точки зрения, Бродский лично на меня никак не повлиял – в отличие от многих других современников. Поэтому, как мне кажется, меня личность Бродского не отягощает интонационным присутствием. Вы мои стихи знаете, и, надеюсь, по ним это видно. Личность Бродского важна для меня, поскольку я люблю несколько его замечательных стихов: «Зимним вечером в Ялте», «Провинция справляет Рождество…», «День назывался первым сентября…», «Дорогая, я вышел из дома сегодня вечером…», ну и ещё целый ряд других. Но он – не самый важный для меня поэт. Ну и, конечно, личность, вся история и легенда Бродского замечательные.
– А кто самые важные поэты? Чьи следы Вы ощущаете в книге, кто влиял творческим и личностным примером?
– Да, пожалуй, никто: опять же, со стороны виднее. Могу сказать о поэтах, которые меня интересуют, которых постоянно читаю, слежу, учусь у них. Не в смысле техники или структуры стиха, интонации, но прислушиваюсь к их духовному опыту, стараясь понять, как получаются такие стихи. Из «живых классиков»: Семён Гринберг, Владимир Гандельсман, Владимир Салимон, Алексей Цветков, Бахыт Кенжеев, Михаил Айзенберг. Из более молодых поэтов, или недавно мной открытых (спасибо журнальной работе!): Александр Кабанов, Юлий Гуголев, Семен Крайтман, Глеб Михалёв, Лилия Газизова, Евгения Риц, недавно ушедший мой дорогой друг Виталий Науменко, Людмила Херсонская. Думаю, что эти поэты и создают будущую Вселенную русской поэзии. Когда я читаю их произведения, становятся смешными стоны по поводу её, русской поэзии, кризиса.
– Спецхран (отдел специального хранения) – так назывался в СССР специальный отдел в библиотеке, доступ к которому был ограничен. Чем обусловлен столь неожиданный выбор названия?
– Под этим названием я, пожалуй, имел в виду определение поэзии: не эстрадность, не общественность, не «для общего пользования». Здесь мы подходим к важному вопросу – искусство для искусства. Я так и определяю назначение нашего журнала «Интерпоэзия» – журнал поэзии для поэтов. Да, пускай звучит элитарно. Но стихи пишут множество людей. И какого бы качества они, их стихи, ни были, для авторов этот процесс важен. Есть также люди, которые не пишут, но в которых поэзия живёт – то есть это странное, идиосинкратическое восприятие мира и преломленной действительности. Это и есть структура поэтической личности. Поэтому я не воспринимаю все эти стоны, что у поэзии нет теперь читателя. Их десятки тысяч, может сотни. Не миллионы, но это, наверное, и правильно. Я люблю на презентациях и мастер-классах задавать вопрос: кто был американским президентом в эпоху Эмили Дикинсон? То есть – что важнее для развития культуры, а значит, и для национального сознания, – преходящая власть или творец, который(ая) способен услышать «шум времени»? Эмили почти не имела никаких публикаций при жизни и жила крайне изолированно в Амхерсте. Теперь её влияние на американскую поэзию, да и на мировую, – неизмеримо.
Ну вот, наверное, поэтому как-то сразу мне сверкнуло – «Спецхран».
– Один из немаловажных сюжетов книги – дороги, которые мы выбираем и которые выбирают нас. От блуждания души в посмертном пространстве («Разбирать, что сказала душа, улетая?») до хождения «из комнаты в комнату» как течения жизни; от переосмысленной ницшеанской максимы «Если в бездну смотреть достаточно долго, / бездна глядит обратно в глаза» до тягостного выяснения отношений с фантомом собственного (ли?) голоса в одном из самых страшных стихотворений «Голос». О чём это, почему это важно?
– Не хочу сказать банальность, но жизнь – это дорога. Дорога, которую мы на самом деле не выбираем, но нередко думаем, что выбираем. Мол, присел на камень – где же это я, куда иду? А ты и не знаешь, куда идёшь. Дорога знает. То есть тот, кто предопределил твою дорогу. Но ты всё время сопротивляешься, думаешь, что выбираешь, в воспоминаниях и рефлексиях пытаешься вернуться: назад в детство, к потерянным возлюбленным, к ушедшим родителям и т.п. У меня была такая как бы шутка: «пойди туда не знаю куда, принеси то, не знаю, что: пошёл, принёс, оказалось не то». Но изредка оказывается, что случайно найденное – это и есть стихи.
Что касается высказывания великого Фридриха… Один из близких мне людей, женщина, как-то раз предупредила: осторожнее в стихах и в жизни, не заглядывай часто в бездну, – и процитировала Ницше. Вот оттуда и родилось это стихотворение. А как не заглядывать? Ведь поэт должен – «до полной гибели всерьёз». Снова не хочу звучать пафосно, так что тут остановимся.
«Страшное» стихотворение «Голос» – я рад, что Вы обратили на него внимание – обращено к любимой женщине во время ужаса потери её. Её голос, как в наше время часто бывает, звучал в основном в телефоне. Мы жили далеко друг от друга. Как это и бывает со стихами – началось с любовного ужаса, а кончилось стихотворением, в котором, наверное, выражено больше, чем просто воплощение любовной драмы.
Я живу с фантомом голоса,
Он звучит дышит шуршит в ущельях
Моей души, по соседней крыше
В заоконном гуде и в лесной глуши
В городских ульях.
Он становится странным далеким но распознаваемым,
Плывёт по кайме сознанья.
В объявлениях аэропорта,
Когда я слышу то объявление – сжимается горло
И я ищу билет подсознательно.
– Три раздела книги – «Прогулка», «Спецхран», «Место для курения» – знаменуют, как мне видится, три этапа «заключения», в этом отражая сквозной мотив книги: голос, отпускающий на волю сам себя… Почему дорога начинается с прогулки, а заканчивается всё «местом для курения» – то есть выбранным для самого себя пространством ситуативной свободы?
– Как известно, есть время разбрасывать камни и время собирать камни. Жизнь начинается с прогулки, с игры (желательно в футбол во дворе, на даче), с долгих прогулок по родному городу, по Сретенке, по Мещанским… Потом идёт накопление разного жизненного опыта, топлива, которое затем формируется в корпус стихов и накапливается в спецхране. Потом надо постоять «на лестнице колючей», покурить и подумать, собрать камни. Иногда выйдет кто-то, с кем можно поговорить, собеседник. «Читателя! Советчика! Врача!..» Вот и получились три раздела этой книги.
– Одиночество лирического героя простирается вплоть до странного желания «послать самому себе и-мейл»; тремя строками ниже – призыв «Ау, дорогие, пишите, мой адрес – agritsman@msn.com». Мотив этот парадоксален: почта главного редактора «Интерпоэзии» наверняка завалена письмами; не могу поверить, что не наступает временами раздражения от их переизбытка… Чувствуете ли Вы здесь разницу между собой и Вашим «стиховым человеком»?
– Это очень хороший вопрос – о дистанции между поэтом и функционером, редактором, издателем, культуртрегером. Поэт:
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы…
В то же время редактор, функционер должен быть на виду в толпе, «всё на продажу». Гармония этой биполярности трудновыполнима, но возможна, если научиться локализовать, менять одеяния. Почта журнала, естественно, завалена. Кроме того, моя личная почта, поскольку я знаком с большим количеством людей, тоже рвётся по швам. Как я говорю своим соратникам – «в дверь, в окно, в трубу, во все щели». Но, с другой стороны, это и замечательно, у людей есть интерес. Не раздражение, а чувство расстройства, напряжения возникает, когда ты не можешь обещать – особенно когда ты симпатизируешь человеку, а материал не годится. Это почти больно.
Те стихи, которые вы процитировали, – отражение чувства одиночества, свойственного моей личности. С этим ничего не поделаешь. Но как говорил, осмелюсь сказать, один из моих великих друзей А. П. Межиров, «стихи – дело одинокое, волчье!».
– «Отвечу, когда снег завалит дороги и скаты крыши», – обращаетесь Вы в том же стихотворении к потенциальному автору письма. Важна ли в этом призыве писать на и-мейл Вашему герою сама коммуникация – или гораздо более значимо свидетельство его замеченности?
– Пожалуй, важно и то, и другое. Наличие собеседника, который на той же волне, понимает тебя и то, что ты делаешь, и который истинно заинтересован в тебе, а не только питает литературный поверхностный интерес, – очень важно. Только что я потерял одного из моих особых собеседников, замечательного поэта, моего молодого друга Виталия Науменко. Разговор, который начался уже давно, ранним утром в Иркутске, когда он меня встретил (Фестиваль поэзии на Байкале), продолжался сквозь годы. См., например, нашу дискуссию с ним и в печати (журналы «Литеrrатура»: http://literratura.org/780-vitaliy-naumenko-mezhdu-beregami.html, http://literratura.org/criticism/779-andrey-gricman-s-drugogo-berega.html и журнал «Интерпоэзия»).
– А в жизни Вы стремитесь к этой коммуникации? Напоминаете ли о себе (в человеческой и поэтической ипостаси), часто ли предпочитаете уединение шумной тусовочности?
– В моей жизни получается и то, и другое. Уединение необходимо, «прогулочное» состояние. Стихи, какими бы они грустными или даже трагическими ни были, – это всё же радость творчества, ни в коем случае не литературная работа. Работа важна при редактировании, подгонке, составлении подборок и книг. Кстати, упомяну, что сборник стихов – это не просто тексты, накиданные в сумку, а книга, роман в стихах, портрет автора. Книга, которую людям интересно читать, а не просто выпустить, презентовать и выпить на фуршете.
Что касается тусовки – этим приходится по необходимости заниматься, если ты играешь определённую социальную роль. Но, с другой стороны, в процессе за годы встречаешь много интересных талантливых людей, потенциальных собеседников. Я, например, «ловец душ», авторов для журнала, и это мне удаётся на разных фестивалях и встречах. А искать и находить талантливых, интересных авторов – как наркотик. Для этого я издаю свой журнал.




