Вера Калмыкова родилась в Москве (1967). Филолог, кандидат наук, искусствовед, член Союза писателей Москвы, редактор. В бытность главным редактором издательства «Русский импульс» подготовила к изданию книги о жизни и творчестве Н. А. Львова, Ф. О. Шехтеля, Г. Г. Филипповского и др. В 2010 г. книга «Очень маленькая родина» (в соавторстве с фотохудожником Сергеем Ивановым) стала лауреатом конкурса «Книга года». Лауреат премии имени А. М. Зверева (журнал «Иностранная литература», 2011). В издательстве «Белый город» опубликовала ряд монографий по истории мирового и русского изобразительного искусства. Публикации стихотворений, критических статей, публицистики в журналах «Арион», «Вопросы литературы», «Вопросы философии», «Гостиная», «Дружба народов», «Звезда», «Зинзивер», «Знамя», «Культура и время», «Литературная учёба», «Наше наследие», «Нева», «Октябрь», «Собрание», «Урал», «Филологические науки», «Toronto Slavic Quarterly», одесском альманахе «Дерибасовская — Ришельевская» и др. Автор статей в «Мандельштамовской энциклопедии» и в др. энциклопедических изданиях. С 2011 г. сотрудничает с московской галереей «Открытый клуб», участвовала в проекте «Точка отсчёта». Автор двух поэтических книг: «Первый сборник» (Милан, 2004) и «Растревоженный воздух» (Москва, 2010).
«Не видно мастера за мастерством»
Тассо Торквато. Освобождённый Иерусалим: поэма / Пер. с итал. и примеч. Романа Дубровкина. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2020. — 608 с., ил.
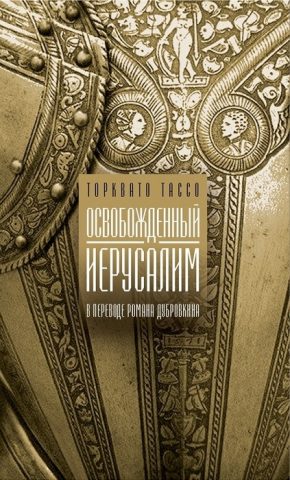 Пока тот сектор культуры, который мыслит себя элитарным, занят саморазмыванием по плоскости демократически устроенной жизни, масскульт осваивает структуры, порождённые и покинутые высоким сообществом. Элитарную культуру некорректно теперь именовать высокой, ибо принцип священноначалия в ней более не действует; зато иерархия устанавливается и укореняется в противоположном лагере, где своим чередом выращиваются идеальные герои, наказываются злодеи, а периферийные, маргинальные явления закономерно прозябают. Многочисленные «Властелины Колец», «Матрицы», «Мстители» и иже с ними заимствовали сценарии из литературного процесса прошлого и порождают сверх-людей, чудо-героев, диво-личностей, действующих в контексте глобальных событий и решающих ни много ни мало судьбы человечества. Словом, произведения, порождённые лоном массовой культуры, ставят и решают задачи, которые ещё век назад находились в юрисдикции высокого эпического рода.
Пока тот сектор культуры, который мыслит себя элитарным, занят саморазмыванием по плоскости демократически устроенной жизни, масскульт осваивает структуры, порождённые и покинутые высоким сообществом. Элитарную культуру некорректно теперь именовать высокой, ибо принцип священноначалия в ней более не действует; зато иерархия устанавливается и укореняется в противоположном лагере, где своим чередом выращиваются идеальные герои, наказываются злодеи, а периферийные, маргинальные явления закономерно прозябают. Многочисленные «Властелины Колец», «Матрицы», «Мстители» и иже с ними заимствовали сценарии из литературного процесса прошлого и порождают сверх-людей, чудо-героев, диво-личностей, действующих в контексте глобальных событий и решающих ни много ни мало судьбы человечества. Словом, произведения, порождённые лоном массовой культуры, ставят и решают задачи, которые ещё век назад находились в юрисдикции высокого эпического рода.
Потому-то современный читатель, причём вовсе не обязательно элитарный, оказывается подготовлен к эпосу лучше, чем к драме или лирике. Думается, что общественная потребность в большой форме существует как некоторый подспудный вектор интеллектуального развития вне всяческих делений. Вряд ли можно назвать случайностью появление и востребованность за последние десятилетия высококачественных переводов грандиозных созданий литературы прошлого. И в этом массиве хочется выделить одну линию, выстраивающуюся, как кажется, преемственно: это «Потерянный рай» Джона Мильтона — Аркадия Штейнберга (1976), «Трагические поэмы» Агриппы Д’Обинье — Александра Ревича (1999) и, наконец, «Освобождённый Иерусалим» Торквато Тассо — Романа Дубровкина (2020).
Переводчик снабдил книгу вступительной заметкой «Великомученик идеала» и послесловием «Там, где кончается словарь…». Двадцать песней «Освобождённого Иерусалима» сопровождаются примечаниями, кратким содержанием и указателем имён.
Рассказывая историю текста Тассо, Дубровкин раскрыл множественные перипетии на пути рыцарской эпопеи «Готфрид» — таково ее первое название — к печати. Сами по себе интересны подробности прохождения через жесточайшие рамки, в которые историю о чудесном освобождении Святого града Иерусалима от неверных загнали первые читатели — Сципионе Гонзага, Фламинно де Нобили, Пьер Анджелино да Барга, Сильвио Антониано, Спероне Спирони — особенно последние двое, из редакторов и рецензентов превратившиеся в настоящих цензоров в самом что ни на есть оценочном смысле слова, причём нечувствительных к поэзии.
Такой поступок автора — непременное соискание одобрения коллег — был совершенно естественным не только в 1574 г., когда Тассо предоставил своё создание на суд экспертов, но и вообще для Средневековья и Возрождения. Как бы мастера Ренессанса ни старались утвердить новые нормы в искусстве, цеховые правила продолжали действовать, а это значило, что произведение должно получить статус шедевра от представителей сообщества — в данном случае ученого. Не молчала и Церковь, особенно есть учесть, что в эпопее Тассо действуют разнообразные волшебники и происходит множество чудес, а также описаны разнообразные любовные коллизии: у автора имелась ощутимая возможность попасть под суд инквизиции.
Следовать за строгими критиками XIX в., обвиняя Тассо в заискивании и пресмыкании перед авторитетными современниками, по меньшей мере неисторично, даже если не учитывать, что в результате придирок, претензий, требований, переписывания и переделок автор лишился рассудка и пребывал в больнице для умалишённых больше семи лет. Парадокс: Тассо не мог решиться на публикацию своего сочинения без цехового одобрения, но ретивые издатели без каких бы то ни было моральных переживаний опубликовали героическую поэму — сначала в сильно усечённом виде, затем полностью — в то время, когда он находился в лечебнице.
Правда, не было бы счастья, да несчастье помогло: как отмечает Дубровкин, «к 1586 году, когда поэт покинул стены Святой Анны, “Иерусалим” выдержал двенадцать переизданий. Слава поэмы была безграничной». Так что поэт мог радоваться, точнее, мог бы радоваться, если бы раз за разом не обнаруживал в своём тексте досадные искажения. Всё-таки более или менее соответствующей авторскому замыслу считается вариант издателя Фебо Бонна, финансово обдиравшего Тассо как липку, но более или менее корректного по отношению к его творению. Однако всё есть только степень, и исследователи рукописей постоянно находят неточности, исправляют их и бесконечно спорят об инварианте авторского текста. Вероятнее всего, он не будет установлен никогда.
Оставим, однако, в стороне драматичные подробности, попортившие Тассо немало крови; сегодня важнее всего сам факт необходимости профессионального одобрения, рецензирования: именно так отлаживался, отрабатывался алгоритм создания высокой культуры с её эстетическими вертикалями и чёткой ценностной системой. Конечно, он соответствовал вертикальной структуре сословного общества. Нам при демократической модели социального устройства приходится расставаться с многими вертикалями, дабы, как говорится, никого не обидеть; однако при таком гуманистическом подходе неизбежно страдает художественное качество, и с этим феноменом нам всё же предстоит буквально в самое ближайшее время начать что-то делать.
Полного адекватного перевода героической эпопеи на русский язык до сей поры не существовало, хотя и сама поэма, и её герои были весьма популярными источниками для разнообразных видов цитирования. Однако это происходило скорее благодаря зарубежным изданиям, и здесь особенно повезло волшебнице Армиде, отметившейся в творчестве Пушкина и Вяземского. Дубровкин описал переводы А. С. Шишкова и С. А. Москотильникова, С. Е. Рича и А. Ф. Мерзлякова как в целом не соответствующие оригиналу. То же можно сказать о попытках Д. Е. Мина, О. Головнина (Р. Ф. Брандта) и В. С. Лихачёва. К тассиане обращались и поэты Серебряного века, прежде всего Д. С. Мережковский, В. Я. Брюсов, А. Белый и др., однако к появлению «Освобожденного Иерусалима» по-русски это не привело. Отметив, что «Звучные октавы Ивана Козлова дышали подлинной поэзией, но оставались отрывками», переводчик на фоне «плачевных неудач» выделил К. Н. Батюшкова, которому, однако, не суждено было продолжить замечательно начатую работу.
Поэма Тассо выполнена в силлабической системе стихосложения, которую Дубровкин полагает противоречащей основной тенденции русского стиха. При этом переводчик стремился воспроизводить все параметры подлинника, в крайнем случае заменяя их русскими аналогами, укоренёнными в отечественной традиции. Поэтому поэтическая форма в русской версии «Освобожденного Иерусалима» — это октавы (с пушкинского времени — «Торкватовы» или «Тассовы») с непременным соблюдением особенностей оригинала, а именно «тройных созвучий и междустрофного альтернанса (чередования мужских и женских окончаний)». Дубровкин заострил на этом внимание: «Повторю ещё раз: без октавы, максимально приближённой (насколько хватало умения и терпения) к непревзойдённым одиннадцатисложникам Тассо в их традиционном русском эквиваленте, я не питал ни малейшей надежды донести до читателя красоту и мощь, которыми восхищался и восхищаюсь в бессмертной поэме».
Каков же результат этой миссии, добровольно принятой на себя Романом Дубровкиным? Поэтическая ткань русского «Освобождённого Иерусалима» ощущается крепкой и упругой. Звучность стиха нередко поддерживается аллитерациями и паронимической аттракцией: «Привычна к запаху и виду крови, // Эрминия родной забыла кров», или «За полбеды считая каждый бой, // За полпобеды бой считая каждый». Рифма в морализирующем последнем стихе октавы у Дубровкина иногда неожиданно вызывает иронический эффект: «Теперь же у постели сарацина // Ей стала ненавистна медицина», а иногда откровенно паронимична: «Стал размышлять, какую бы напасть // Наслать на них, чтобы с Египтом вместе // На ослабевшего врага напасть. // Так он гадал и вдруг застыл на месте <…>». Не боится переводчик и однокоренных слов, нанизывая одно значение на другое: «Ты на земле был пасынком земли, // Земному уподобленный орудью». Иногда Дубровкин использует слова, имеющие хождение начиная с более поздних эпох: «Похвастаться горазды исполины // Всем, чем угодно, кроме дисциплины», а иногда, напротив, прибегает к архаичному, квази-эллинскому способу словообразования: «В грязи Пифон клубится злоехидный». В случаях, когда надо передать внешнюю динамику событий, переводчик задействует множество изобразительных средств:
Несутся скакуны богатырей,
Крюкастым копьям ветер не перечит,
По веткам рысь не прыгает быстрей,
Быстрей не падает на землю кречет.
У иноходцев пламя из ноздрей.
Арганту в шлем копьё нормандец мечет,
Нормандца в шлем бьёт сарацинский вождь,
Летит с небес осколков острых дождь.
В тесте встречаются изящнейшие парадоксы в духе философии Ренессанса: «Душа ушла, а следом дух вельможный — // Мертвец остался дважды одинок».
Язык перевода Романа Дубровкина богат и разнообразен, широта его словаря и остроумие словоупотребления не оставляют желать лучшего. Русский «Освобождённый Иерусалим» таков, что, кажется, был в отечественной литературе всегда — или должен был быть и закономерно появился. Словарь поэмы кажется бесконечным. А поскольку Дубровкин неоднократно артикулировал свою верность традициям Карамзина и Жуковского, постольку мастер действительно пропадает за своим творением: здесь нет ничего натужного, выдуманного, «слишком авторского», всё органично и естественно, так, как будто русский язык говорил прелагателем несчастного Тасса, многократно оплаканного в России.



