Наталья Громова: «Всё, чем я занимаюсь, – это выстраивание событий в историческом контексте»
Как историк отечественной литературы Наталья Александровна Громова заботится об извлечении из архивной темноты не известного ранее фактологического материала, а как писателя её волнует восприятие текста рядовым читателем, не обязательно филологом или историком. Поэтому так естественны для неё включение в контекст повествования личных событий и переживаний, тон непринуждённой беседы и прозрачность всего хода литературных расследований. Сама она определяет этот синтез профессий в себе ёмким магическим словом «судьба». Поэту и критику Зульфие Алькаевой тоже была судьба – прочесть книги Н.А. Громовой, встретиться с ней в Москве и в каком-то смысле проникнуть в кровеносную систему её книг, раскрыть секрет популярности громовской прозы, в особенности её новой книги о жизни поэта Ольги Берггольц «Смерти не было и нет».
См. также на «Textura» рецензию Ольги Бугославской на книгу Натальи Громовой.

Зульфия Алькаева – поэт, литературный критик. Родилась в Ногинске (Богородск), живёт в Электростали. Поэт, литературовед. Окончила факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. Автор нескольких книг стихотворений. Лауреат XIV Артиады народов России в номинации «Литература» (2016), победитель II Международного литературно-музыкального фестиваля «Интеллигентный сезон»-2016 (Крым, Саки) в номинации «Поэзия» и I Международного фестиваля «Образ Крыма» в номинации «Эссеистика» (2017). Лонг-лист международной премии «Писатель XXI века» (2014).
Наталья Громова – российский прозаик, историк литературы, литературовед, драматург, журналист, педагог, музейный работник, научный сотрудник. Закончила философский факультет МГУ (1983). С 1983 по 1989 работала в редакции литературы издательства «Советская энциклопедия». Автор статей в энциклопедиях «Русские писатели», «Ленинград». Работала заместителем главного редактора в газете «Первое сентября», автор многих статей литературно-философского содержания. Печатается в журналах «Вопросы литературы», «Дружба народов», «Звезда», «Знамя», «Нева» и др. Старший научный сотрудник Дома-музея М. И. Цветаевой в Москве до 2015. Ведущий научный сотрудник Дома музея Бориса Пастернака в Переделкино до 2016. Ведущий научный сотрудник Государственного Литературного музея (дом Остроухова). Автор 7 пьес. Член Союза писателей Москвы. Живёт в Москве. Премия журнала «Знамя» за 2012 год (за архивный роман Ключ). Финалист премии «Русский Букер» за 2014 год. Грант на перевод на английский язык. Лауреат премии Союза писателей Москвы «Венец» за 2014 год.
– Наталья Александровна, начну с вопроса, который касается всего извода ваших книг. Вы по-своему развили в современной литературе некий пограничный жанр – архивный роман: таков, например, ваш «Пилигрим», и вообще во многих книгах опираетесь на дневниковые записи своих героев. Этот жанр не всегда принимался. Была ведь и критика?
 – Во-первых, я вторглась в область личной жизни людей и писала на основании семейных архивов. Подлинным исследователям не понравилось то, что проверить такой материал сложно. Во-вторых, это было не академично. В-третьих, я выражала свои суждения и, разумеется, не хотела допускать никакой желтизны, хотя мне предлагали в «Караван» писать: это был бы для них лакомый кусок – про каждого писателя выдать какую-то байку. Я всегда помнила: родственники открывают архивы, доверяют мне близких ровно затем, чтобы ничего не было упущено. Почему ещё сложно стать понятой коллегами?.. Я писала об уже приговорённых историей людях, в том числе о Фадееве, Федине, всегда видя и преподнося и одну, и вторую сторону. Я не могла пройти мимо непреложных фактов. Если человек солгал, обманул, обидел, нельзя не написать: потому что это репутация во времени.
– Во-первых, я вторглась в область личной жизни людей и писала на основании семейных архивов. Подлинным исследователям не понравилось то, что проверить такой материал сложно. Во-вторых, это было не академично. В-третьих, я выражала свои суждения и, разумеется, не хотела допускать никакой желтизны, хотя мне предлагали в «Караван» писать: это был бы для них лакомый кусок – про каждого писателя выдать какую-то байку. Я всегда помнила: родственники открывают архивы, доверяют мне близких ровно затем, чтобы ничего не было упущено. Почему ещё сложно стать понятой коллегами?.. Я писала об уже приговорённых историей людях, в том числе о Фадееве, Федине, всегда видя и преподнося и одну, и вторую сторону. Я не могла пройти мимо непреложных фактов. Если человек солгал, обманул, обидел, нельзя не написать: потому что это репутация во времени.
– Таких новых сведений много в вашей книге «Распад». Жаль, её уже нет в продаже.
– Эта книга ещё появится. Там как раз описаны страшные послевоенные истории Тарасенкова, Вишневского, Пастернака. Сначала там развивается тема конформизма, когда после войны люди полны веры в то, что они могут что-то изменить. Но вот 14 августа 1946 года принимается знаменитое постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», и надежды на ослабление режима рушатся. Мы видим, как Тарасенков, обожающий Пастернака, начинает критиковать его и в нравственном смысле погибает.
– Идею написать о жизни Ольги Берггольц вам подала известная писательница Мария Иосифовна Белкина. И тут опять же воплотился принцип последовательности, когда книга книгу окликает. Нетрудно заметить, что название стихотворного сборника ленинградской поэтессы 1965-го года «Узел» перекликается с названием вашей книги о литературном быте конца 20-х-30-х годов «Узел. Поэты. Дружбы. Разрывы». Так же ёмко именовалось издательство прошлых лет – «Узел».
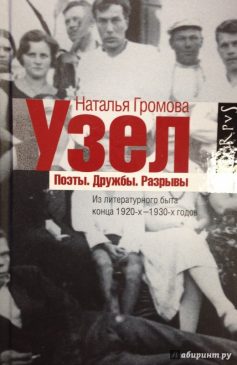 – Когда я писала свой «Узел», даже близко в сторону Берггольц не смотрела. И вообще собиралась выйти из этой истории и пойти дальше… Про книгу Берггольц не знала, но поняла, что это поразительное слово стоит обыграть.
– Когда я писала свой «Узел», даже близко в сторону Берггольц не смотрела. И вообще собиралась выйти из этой истории и пойти дальше… Про книгу Берггольц не знала, но поняла, что это поразительное слово стоит обыграть.
– То есть слово «узел» найдено самим временем?
– Верно. Неслучайно я поместила в начало книги «Узел. Поэты. Дружбы. Разрывы» целых два эпиграфа. Одна цитата – из Сергея Дурылина, где он объясняет, как узел превращается в удавку. Когда узел развязан, он становится верёвкой, которую «можно привязать к крюку, к отдушине… И её можно выбросить – и жить без верёвок и без узлов». Другой эпиграф – строчки Бориса Пастернака: «Но тут нас не оставят. // Лет через пятьдесят, // Как ветка пустит паветвь, // Найдут и воскресят». Когда Марина Иосифовна говорила про идею узла, я немного испугалась ёмкости этого понятия. Но она убедила: название книги должно брать внимание, чтобы читатели сразу не приходили к плоскому выводу о том, про что книга. То есть слово требуется энергичное и неоднозначное.
– Интерес к личности несколько подзабытой «блокадной мадонны» Ольги Берггольц в последнее время возродился, и связано это с публикацией её трагических дневников. Можно ли назвать это неким вторым пришествием поэта на историческую авансцену? Насколько, на ваш взгляд, это явление может изменить литературное поле и представление о советской эпохе?
– Здесь есть несколько проблем. Я напомню, как эти материалы начали приходить к читателю. В 90-е годы Мария Фёдоровна, сестра поэта Ольги Берггольц, собрала самые острые моменты из дневников и опубликовала их в ряде журналов. Все эти тексты возникли на фоне «Чевенгура», «Архипелага Гулага» и остались почти непрочитанными. И потом лишь в 2000-х годах свидетельствам Берггольц, наконец, настал черёд. Началась рефлексия по поводу советской жизни и человека в ту эпоху. Книга Ольга Берггольц «Запретный дневник», подготовленная Натальей Соколовской, была огромным прорывом в биографии поэта. Дневники открыли в очередной раз (не могу сказать, что это было ново для историков литературы) её двойную жизнь. В них были страшные страницы, посвящённые блокаде и лжи, на которой была построена эта трагедия. К тому времени главные стихотворения Ольги Берггольц из того же сборника «Узел» уже были опубликованы. Когда будут наконец опубликованы очень страшные дневники 30-х годов, когда вообще весь корпус дневников увидит свет, будет ясно, насколько это драматическая история. Человек здесь выступает скорее в роли жертвы. То есть «блокадная мадонна» остаётся, да, но чего Ольге Фёдоровне это стоит, что за этим стоит? В этом предстоит ещё разобраться.
– Почему же это так актуально именно сегодня?
– Мы подошли к периоду достаточно тяжёлому. Я, собственно, всегда с этого начинаю говорить… Нынешнее дикое увлечение всем советским имеет две стороны. С одной – надо себя осознать и своих предков, понять, что произошло, что за деформация и травма. С другой – это теперь поднято на щит, названо нашими победами и счастьем, что приведет только к ещё большему неврозу.
– Нет истинного искупления?
– Нет и осознания. Мы видим это на примере судьбы Ольги Берггольц: советская идеология разорвала её пополам, она её уничтожила. Хотя сама Ольга Фёдоровна знала, как убили Твардовского, погубили Светлова. Я уж не говорю про Платонова или Фадеева, который убил себя сам. Я говорю про благополучных советских писателей, которых никто не замучил, не посадил и не расстрелял. Их судьба незавидна, их судьба ужасна. Идеологический прессинг испытали все советские люди, не только писатели и поэты, просто литераторы оставили дневники, свидетельства. Ольга Берггольц считала себя хроникёром. В конце жизни она назовёт себя духом истории, явившимся, чтобы рассказать о правду. Она – носитель памяти своего народа. Это её удел. Другое дело, что до высокой планки, как она полагала, она не допрыгнула.
– Что вам помогало в вашей работе, какие источники, кроме дневников Ольги Федоровны? Вы пишете, что использовали архивы Ирэны Гурской и семьи Лебединских. Насколько они дополнили картину жизни Берггольц?
 – Любая такого рода работа предполагает широкий спектр источников. Когда человек создаёт архив, он очень часто отбрасывает что-то. Он не может показать себя со стороны. Поэтому важно прочесть его письма в других каких-то архивах. Проблема в том, чтобы увидеть человека со всех сторон. Если такой возможности нет, за разработку темы скучно браться. Одних дневников недостаточно бывает, если про этих людей никто не знает. Зато через дневники можно узнать время, контекст происходящего. Так, допустим, мне помогли архивы Олечки Бессарабовой и Варвары Мирович… Что касается Берггольц, то её окружало множество людей. У нас остались целые тома воспоминаний о ней, только эти воспоминания лакированные, сладкие, как леденцы. Из них иногда вытягиваешь какое-то подлинное слово, но на одно такое приходится тысячи пустых, в которых нет человека живого.
– Любая такого рода работа предполагает широкий спектр источников. Когда человек создаёт архив, он очень часто отбрасывает что-то. Он не может показать себя со стороны. Поэтому важно прочесть его письма в других каких-то архивах. Проблема в том, чтобы увидеть человека со всех сторон. Если такой возможности нет, за разработку темы скучно браться. Одних дневников недостаточно бывает, если про этих людей никто не знает. Зато через дневники можно узнать время, контекст происходящего. Так, допустим, мне помогли архивы Олечки Бессарабовой и Варвары Мирович… Что касается Берггольц, то её окружало множество людей. У нас остались целые тома воспоминаний о ней, только эти воспоминания лакированные, сладкие, как леденцы. Из них иногда вытягиваешь какое-то подлинное слово, но на одно такое приходится тысячи пустых, в которых нет человека живого.
– Но ведь в дневниках человек остаётся…
– В дневниках он тоже не весь. Берггольц могла писать о себе какие угодно гадости… Но это не объективная картина. Мне нужен был взгляд на неё других людей. Вот тут, конечно, без семейных архивов не обойтись. Интересно, как Лебединский с Мусей, сестрой Ольги Берггольц, разговаривает о Корнилове и о ней… Они не предполагают, что это будет когда-то известно, и можно этому верить. Нашлись несколько писем подруги поэтессы. Они меня тоже очень порадовали. И хорошо, что я не одна занимаюсь изучением этих документов. Слава Богу, есть в Пушкинском доме исследователь Наталья Прозорова, которая написала книгу о детстве Ольги Берггольц. Именно поэтому я сознательно мало места в своей книге уделила раннему периоду жизни поэта.
– Не стали повторяться?
– Не то чтобы повторяться. В чисто биографической книжке пришлось бы о многом говорить, и я закопалась бы в фактах.
– У вас отбор событий получился авторский.
– Абсолютно! Я поэтому и написала, что это мой личный опыт. Там материала море. Мало того, я знаю, как болезненно воспринимают тему «блокадной мадонны» в городе на Неве. Там на деньги мэрии сняли многосерийный документальный фильм про Берггольц «Ленинградка». Никто эти серии смотреть не хочет, потому что это советское пафосное кино… Понимаете, мы находимся в патриотическом тренде. Когда я начинала заниматься советским временем, то жила в благодушной атмосфере, потому что советская тема была не нужна. А сейчас при слове «советский» люди думают, что это про них, что они должны поднять это знамя или, как автор фильма про Берггольц, встать на моей презентации и заявить: «Вы запятнали имя нашей героини!» Наталья Соколовская, выпустившая в свет «Запретный дневник», хорошо ответила ей тогда: «Вы, пожалуйста, сделайте сначала талантливое кино, а потом выступайте». Фокус в том, что нам пора уже перейти на другой уровень понимания прошлого. Тем более если говорить про саму Ольгу Берггольц, которая в своих дневниках и стихах всегда хотела правды: «А если бы мне дали слово правды написать, над костром горящим могла бы руку подержать». Собственно, она говорит о том, что для неё высшая ценность, она бы жизнь отдала за возможность быть честной. Но этой возможности здесь нет. Это абсолютный пафос. Она признаётся в этом сразу после тюрьмы. И всё время говорит о внутреннем милиционере, который в ней сидит. В этом смысле она открытый человек.
– Ваша глава о смерти Ленина – настоящее открытие. Мало того, что вы проследили, как вашу героиню отбросило от веры в Бога к «милому» Ленину, вы реконструировали всю картину события. И мы узнали, что соучеников Ольги обрадовал уход вождя. Расстроилась только Ольга. Как белая ворона. Другие ребята смотрели на взрослых и адекватно восприняли ситуацию, трезво оценили фигуру Ильича. Надеялись, что закончатся беды, снова наступит НЭП, появится изобилие продуктов.
– Да, да. Всё так и было.
– Странно, что Ольга не была вместе со своим поколением.
– Но это не поколение. Это обыватели. Вокруг неё уже маленькие обыватели. А она в этот момент принадлежит к некому высшему слою. Она уже это чувствует. То есть на неё здесь не подействовали ни семья, ни школа, ведь семья в той же пучине. Папа пьёт, мама ноет… Вдохновляющие примеры она видит только у людей в кожанках, на парадах. За этим же идёт энергия! Это новое.
– И, чем больше Ольга Берггольц впитывала в себя советскую эпоху, тем меньше сил у неё оставалось потом её из себя выдавить?
– Верно. И потом, надо же для этого отказаться от прошлой жизни, от любимого отца. Для Ольги это невозможно, потому что она действительно верила: труд – это прекрасно, особенно такой, свободный. Она хотела жить в мифологическом ключе, как в городе Первороссийск, представляя первороссиян людьми, творящими новый прекрасный мир. Даже само слово созвучно с первохристианами. Она в этих людей верила, она их видела и считала, что если отречётся от советской власти, она отречётся и от первороссиян. И не отрекалась. С этим так и осталась.
– Но последнее стихотворение, которое вы привели в книге, о том, что Берггольц принимает на себя ответственность за всё, что сотворила советская власть.
– Да. Она всё понимает, только сделать уже ничего не может. Я не случайно там привожу Солженицына, Копелева, Некрасова. Все они стояли перед подобным выбором, все пережили драму. И они сумели эту внутреннюю задачу разрешить, оторвав от себя эту засохшую болячку. Глубина вхождения в эпоху у Ольги Берггольц была иная… Поэтому не получилось. Это был страшный выбор. Для того чтобы слиться с советской властью, Твардовский, например, в каком-то смысле переступил через своих близких.
– А Сталинские премии?.. Это же полное включение в контекст времени.
– Дело даже не в этом. У Твардовского посадили брата, отца раскулачили. Он с этим как бы внутренне согласился. Всё! Это гораздо страшнее любой Сталинской премии. Потому что ты уже как бы исторгнут из рода.
– Интересно, каким образом происходит подмена понятий, когда Ольга расстаётся с поэтом Борисом Корниловым? Почему она не видит его глубину?
– Она не могла его понять. Ей 19 лет, у неё нет опыта.
– Ольга Берггольц рассуждает в дневнике чисто по-советски: «Я разошлась с ним просто-таки по классическим канонам – отрывал от комсомола, ввергал в мещанство, сам «разлагался»… Чудовищно звучит. Испытываешь шок, читая это.
– Меня-то как раз этот шок и пугает. Для меня естественно и понятно, как это происходит. Если человек способен через такую ломку пройти и измениться, значит, это уже здорово. Если бы она в этом закостенела, мне было бы вообще неинтересно браться за материал. Потому что есть персонажи типа Маргариты Алигер. Человек остроумный, все её обожали… Но вот не пережила она этой тюрьмы, никаких испытаний, и осталась в 70-х такой же, что была в 30-е годы. Не изменилась.
– А у Берггольц были эти поворотные вещи страшные: тюрьма, блокада, смерть детей… Как бы вы сформулировали причины предельной откровенности Берггольц?
– Их несколько. Во-первых, стремление оставить свидетельства для потомков. Во-вторых, психологическое освобождение, вытеснение невыносимых обстоятельств на бумагу, иначе сойдёшь с ума… А главное, это её творческая лаборатория. Взять, к примеру, записные книжки Цветаевой. Только из таких абсолютно обнажённых, резких впечатлений человек берёт краски для письма. Кровью пишутся стихи, больше неоткуда брать чернила.
– Ольга Берггольц в блокаду пишет, как влюбилась в Макогоненко. При этом у нее умирает бесконечно дорогой для неё муж. Как это можно объяснить?
– Как любой умный, глубокий человек, Ольга прекрасно понимает, что для своей судьбы творит вещи очень плохие, что к ней это все вернётся. Не творить она этого не может, потому что она человек, подверженный любви и страсти. Во время блокады единственным условием выживания было для неё испытывать чувство любви. Муж безнадёжен, он умирает. Ольга действительно им дорожит. Но при этом она знает, что не выживет без любви. Любовь для неё и есть жизнь. Это знает про неё и Молчанов. Поэтому в книге я специально привожу кучу свидетельств. Есть там потрясающий разговор мужа Ольги со Шварцем, а Макогоненко он прямо просит: «Спаси её хотя бы для себя». Тема непростая, многомерная. Тут мне всегда страшно, когда идёт однозначная оценка.
– Действительно, трудно подобрать слова. Потому что здесь целый комплекс проблем. Но она воспринимала эти дневники как поэзию, как, может быть, замену стихам?
– Не совсем поэзию. Это такой способ выживания и лаборатория… Единственный путь борьбы со смертью. Об этом роман «Доктор Живаго»: бессмертие достигается только творческим актом.
– Наталья Александровна, 30-е годы минувшего века вы называете пропущенными временами. Расскажите, насколько сложно шёл для вас процесс восстановления контекста того времени? Помог ли вам на этом пути ваш любимый Михаил Булгаков?
– Булгаков, конечно, нам всем помог узнать писательскую жизнь изнутри. Но это заезженная дорога. Моя задача состояла в изучении нехоженых троп, неизвестных личностей, таких как Леопольд Авербах… Все писатели до определённого времени были подвешены в воздухе. Даже бедная Ахматова. До 17-го года всё блестяще понимается, а дальше Ахматова попадает в никому не известный контекст: кто эти писатели, которые к ней приходят, кто её гнобит… И тут открылось поле гениальных  возможностей. Мне стало интересно узнать, как было всё устроено? Не просто окружение, то есть литературный быт, где собрания, где ругань… Разумеется, я проложила лишь маленькие узенькие дорожки, по которым ещё тысяча людей должны пройти. Но уже открылись поразительные вещи. Какое-то странное соединение, допустим, Афиногенова, РАППовца, с Пастернаком. Тот влюбляется в писателя, когда ему плохо. Много удивительных сюжетов возникает… Сейчас мы абсолютно лишены этого контекста, живём как бы в гуле одного, двух, трёх голосов… Собственно, ради полной картины контекста я и увлеклась потом темой эвакуации. И сейчас уже выстраивается трилогия. И книга «Распад», захватывающая период до 56-го года, как раз встраивается в этот объём литературной неприятной жизни, существующей вокруг больших поэтов. Вся книга «Распад» про то, как пытаются съесть Пастернака со всех сторон. Он – центр силы. Так же как в эвакуации в Ташкенте центром силы была Ахматова. А в Чистополе – тот же Пастернак. А вокруг идёт какое-то невероятное напряжение…
возможностей. Мне стало интересно узнать, как было всё устроено? Не просто окружение, то есть литературный быт, где собрания, где ругань… Разумеется, я проложила лишь маленькие узенькие дорожки, по которым ещё тысяча людей должны пройти. Но уже открылись поразительные вещи. Какое-то странное соединение, допустим, Афиногенова, РАППовца, с Пастернаком. Тот влюбляется в писателя, когда ему плохо. Много удивительных сюжетов возникает… Сейчас мы абсолютно лишены этого контекста, живём как бы в гуле одного, двух, трёх голосов… Собственно, ради полной картины контекста я и увлеклась потом темой эвакуации. И сейчас уже выстраивается трилогия. И книга «Распад», захватывающая период до 56-го года, как раз встраивается в этот объём литературной неприятной жизни, существующей вокруг больших поэтов. Вся книга «Распад» про то, как пытаются съесть Пастернака со всех сторон. Он – центр силы. Так же как в эвакуации в Ташкенте центром силы была Ахматова. А в Чистополе – тот же Пастернак. А вокруг идёт какое-то невероятное напряжение…
Почему эти люди – центр силы? Потому что они сохраняют верность самим себе, некоторый нравственный стержень. Их или ненавидят, или любят. Их можно запрещать или прославлять. Но без них никак нельзя. Они негласно питают общество. Не случайно та же Берггольц и с Ахматовой, и с Пастернаком имела очень серьёзные отношения. Именно с этими двумя столпами. С Ахматовой с 18 лет она была связана, а с Пастернаком общалась после войны.
– В одном из интервью вы выстроили своеобразную иерархию. Сказали, что великий поэт упирается в небо головой, а в землю врастает ногами. А поэт другого ряда, более мелкий, или повисает в воздухе, или стоит на земле. Понятно, что Цветаева, исходя из вашей теории, великий поэт. А если посмотреть на Ольгу Берггольц – где она находятся на этой шкале?
– Понимаете, какая с Берггольц штука. Она никогда не служила Слову, как это делают поэты большой силы. Она служила идее. При этом писала стихи хорошие и не очень. В какие-то моменты она поднимается, пишет стихи о бессмертии, на Мамисонском перевале, но удержаться на этой высоте не может…
– Вернёмся прямо к самой первой строке вашей книги, где вы признались, что никогда бы не стали писать о Берггольц… Вы имели в виду трудность материала?
– Это просто не моя тема. Но у меня нет в жизни случайностей. О Берггольц заговорила знавшая её Мария Белкина, вдохновившая меня на целую серию книг… Эта история действительно ко мне сама пришла. Моя воля тут ни при чём.
– Здесь мистическое ваше сознание просматривается. Вспоминается ваше письмо самой себе в 13 лет, в будущее, вы об этом рассказывали в «Пилигриме».
– Да. Но здесь важна еще некоторая разъединённость Москвы и Питера, и она для меня тоже становилась огромной преградой. Я до сих пор, когда приезжаю в Питер, хожу по улицам, то понимаю, что не чувствую ногами это пространство. Вот Москва – мой город, хотя родилась я в Приморском крае. Меня привезли сюда в 9 месяцев. Я ощущаю как бы полную слиянность с Москвой. И в то же время я о Достоевском писала, а он питерский… Теперь написала об Ольге Берггольц, которая действительно стала мифом города на Неве. И вот, когда я в библиотеке Маяковского выступала, ко мне подошли такие слегка ощерившиеся люди с вопросом: зачем я, человек из Москвы, написала про ленинградскую поэтессу. Я сумела им всё прекрасно объяснить. Они ушли в полном восторге. Ничего плохого не случилось. Но проблема существует…
– Питерцам показалось, что ваш интерес к личности Берггольц – это акт против их города?
– Для них это подозрительно, потому что, поймите, за этим стоит ужасная история уничтожения и утопления, превращения Петербурга в провинциальное местечко. Это воспринимается поколениями очень трагично.
– Вы отдавали себе отчёт, что вас будут упрекать как москвичку, взявшуюся писать о ленинградке?
– Конечно. Ровно поэтому эта история не о блокадной мадонне, а повесть о советской поэтессе Ольге Берггольц. Я беру то, что мне понятно и близко.
– И то, чего не было.
– И то, чего не было, да. Поэтому поклонникам поэтессы я сразу и на этом вечере сказала: вы напишете свою книгу! Сейчас выйдет полный свод дневников, и пишите всё, что вы хотите, на здоровье! Действительно, дневники были закрыты, к ним был очень трудный доступ. Тут ведь вопрос в том, что я оказалась рядом…
– К нашему счастью, в нужный момент оказались… Итак, если в «Пилигриме» Вы уточняете для себя и читателя карту подлинной Москвы, то в документальной повести о ленинградской поэтессе из тумана времени вырастает уже как бы вся Россия. У вашей героини есть знаковые места: дача недалеко от станции Северская, где умерла её Маечка, дом № 20 по набережной Чёрной речки, где она прожила до 1975 года… Какие адреса, связанные с Берггольц, Вы посетили?
– Я была на Невской заставе, прошла там, где была фабрика Тортона, где отец Ольги Фёдоровны тогда работал. Разумеется, заходила в Дом радио, обошла его сверху донизу, и 7 этаж, и подвал, откуда велись передачи. Была в нынешнем музее блокады, не очень хорошем, на мой взгляд.Когда друзья проводили меня на место, где бабушка Ольги родилась, где стоял Палевский проспект, это произвело на меня сильнейшее впечатление. Я поняла, как было устроено пространство детства поэта. Это пространство «Дневных звёзд». Город Углич – тоже её место…
– Это помогло вам понять её начало?
– Дало. Но это такая штука, которая ткётся из разных ощущений. Иногда сильнее даже проза действует или какое путешествие. А все эти памятники, это, извините, такое вторичное … Это же не сделано по зову души, как замечательный памятник Мандельштаму в Старосадском переулке. Я знаю, как он сделан, с каким сердцем!
– Ольге Берггольц установили памятник в Питере во дворе её 20-го дома в 2014 году. Три архитектора запечатлели в скульптурной композиции три важные для Берггольц предмета: микрофон, пишущую машинку ремингстон и прибитые к скамейке дневники. Вы бы к этим символам что-то добавили?
– Не стала бы ничего добавлять, потому что это не моё дело… А вообще портрет поэта ни одна фотография не отразит, хотя и существуют очень нежные снимки Ольги Берггольц… Она для меня настолько текучая… Любой образ приколачивает человека к чему-то, останавливает его живое изменение, ведь сегодня Ольга с микрофоном, а завтра – без него. Эта личность – ртуть, очень чуткое, противоречивое и мучительно меняющееся существо. И тут даже современники не помогают. Вот, у меня на полке стоит книга воспоминаний, там через слово повторяется: Ольга Берггольц была душой города, ходила в красной косынке… То есть передо мной всегда встаёт проблема оторваться от того, что уже стало неким общим сознанием, и найти своё. Иначе живого слова не родится.
– Поэтому у вас получается иная проза. Не сухая монография, когда мы не видим за ней биографа…
– Есть подход белкинский, он абсолютно мне близок и понятен. Есть академические подходы, их я тоже не отрицаю. Что делаю я? Пытаюсь соединить филологическую науку с людьми, но сделать это не пошло, чтобы вернуть интерес массового читателя. Проблема в том, что есть аутичное филологическое знание, озвучиваемое на конференциях. Оно часто не доходит до людей, как бы остаётся внутри профессионального мира. И в этом смысле моя книга «Смерти не было и нет» не просто о Берггольц, это мои литературные штудии, они, собственно, обращены к тому, чтобы люди раздвинули рамки своего кругозора.
– И поэтому ваши читатели – это физики, химики, историки, которым любопытно, как рождается литература, кем она делается. Они не столкнутся со сложными терминами, понятными только филологам.
– Это одна из моих важных целей – популяризация литературы.
– И в то же время вы не стремитесь создать некий канон. Ваши истории – ваш авторский пересказ.
– Ну да. Мне всё время кажется, что самое главное – это наше собственное высказывание и интонация. Я не могу написать объективную книгу ни об одном человеке, не исключая себя.
– Наталья Александровна, вы работали над книгой об Ольге Берггольц долго. Скажите, что вам мешало, помимо питерского, отличного от московского, контекста?
– Препятствия были внутренние. Я не могла эту книгу начать. У меня возникали тысячи вариантов детства поэта. Шло тяжелое преодоление материала. То я пыталась через пересказ «Дневных звёзд» идти, то начинала с войны… У меня эта книга вообще не хотела ни начинаться, ни двигаться. Я увязала в бездне всего, что было и не было известно об Ольге Берггольц.
– Вы как-то писали, что когда одна дверь для вас закрывается, другая открывается. Один ларец опустошен, но в новой шкатулке – новые сокровища. Так какой же следующий ключ вы держите в руках?

– У меня есть для читателей немыслимая история. Сложилась книжка, уже из другой оперы. Она выйдет в редакции Елены Шубиной, надеюсь, в следующем году. Посвящена огромному количеству загадочных творческих кружков, занимающихся невероятными вещами, в один из них входила группа Михаила Лозинского, которую впоследствии объявят фашистской. В книге приведены тексты, истории, судьбы… Описана целая команда следователей, особенно жизнь одного, ведущего процессы о кружках, а перед этим занимавшегося делом Хармса. Это будет книга-очерк «Дело Бронникова» – по имени мальчика, забытого юноши. Считалось, что это он 14 кружков организовал. Полная глупость. Из материалов допросов, из истории людей сложилось повествование… Вторая книга будет называться «Именной указатель». Она про людей, которые определили в каком-то смысле мою жизнь, безусловно, там опять же появятся Лидия Лебединская, Мария Белкина. Там будет описана и история Энциклопедии, в которой я работала, рассказ про оклеветанного друга Булгакова Ермолинского. Туда войдёт интервью с близкой подругой Пастернака: она ещё жива, ей 94 года. Там будет много именных историй.
И ещё я подготовила книгу писем Льва Шестова к Варваре Мирович. Причём я хочу не просто письма опубликовать, но выписать удивительную многофактурную историю любви, которая сделала из Шестова великого философа. Интересны и разговоры Мирович с Толстым, и страшный покаянный монолог Варвары о самой себе, который появляется в её дневнике на 40-ой день после смерти её матери.
– Из вашего «Пилигрима» вспоминается эпизод с Марией Иосифовной Белкиной. Когда вы заболели, она, оберегая вас, говорит: брось это письмо… И правда, работа с уходящей натурой отнимает колоссальное количество энергии. Что же это для вас? Вы оцениваете это как какой-то долг, ваш личный подвиг, искупление?
– Сложно в двух словах объяснить. Во-первых, это, как сказала моя подруга, исполнение судьбы. Есть то, что тебе предписано. До какого-то времени я этого не знала. До 40 лет много чем в жизни занималась…
– Работали в музее?
– Нет. Я в музей попала абсолютно случайно. Писала пьесы, и кое-что из этого даже получалось. В какой-то период я была драматургом, в какой-то – учителем в школе «Ковчег», где рос и мой сын. Я вынуждена была выучить литературу, которую я любила, но, понятно, в другом смысле. Эта была специальная школа, очень специфическая. Я написала 200 статей в газету «Первое сентября», в которую меня взял Симон Соловейчик. Это всё было одновременно почти. Взял сначала заместителем главного редактора, ему нравились идеи, которые я генерировала. Но, проработав там две недели, я поняла, что текучка меня съест. Я просто писала газетные подвалы. Например, статью о трёх искушениях Базарова. Вот я жила в этом поле и была вполне востребована. Но в глубине души знала: есть что-то другое, для чего я предназначена. Потом было издательство. Мне всегда хотелось иметь дело с книжками. Я писала какие-то рассказы и собиралась открыть собственное издательство. Но что-то с чем-то не соединялось… Соединилось тогда, когда я начала писать статьи в энциклопедии и освоила принципы архивной работы. И что произошло? Меня стала затягивать эта работа. Огромный объём текстов стал у меня выкладываться в абсолютно живой мир. Тут и Мария Иосифовна Белкина мне помогла. Она убедила меня, что у меня всё получится и, главное, ей было дико интересно, когда я на её глазах воспроизводила свои идеи.
– Она была вашим первым читателем?
– Нет, слушателем. Читать уже не могла, зрение не позволяло. Что-то она успела прочесть, мою первую книжку жёлтенькую «Все в чужое глядят окно». Про ташкентскую эвакуацию. Потом был «Чистополь», который ей уже кто-то читал вслух. Потом уже – «Узел»… У меня возникало зрительное поле событий, и в него Мария Белкина включала свои поразительные картинки. У неё как будто бы работал внутренний телевизор, некое кино, которое я с упоением смотрела. Кроме того, Мария Иосифовна советовала мне, с кем стоит поговорить, чтобы, к примеру, лучше представлять себе Москву 30-х годов. Она показала мне метод, а дальше я уже, разумеется, научилась видеть сюжеты самостоятельно.
– Можно сказать, у Марии Белкиной был дар режиссуры книг?
– Был. С другой стороны, ничего бы не вышло, если бы не моё драматургическое прошлое. Тут каждое лыко в строку пошло. Если бы я не занималась драматургией, я бы не видела сюжета. Большинство людей, занятых историческим материалом, страдают оттого, что он их накрывает, им бывает страшно убрать какой-нибудь кусок. У меня же есть чувство формы, воспитанное в пору создания пьес. Я точно знаю, что я должна вот в этом месте закончить, а тут начать, чтобы не нарушился ритм. До этого я не понимала: зачем я пишу, кому и так далее… А тут рефлексия прервалась, всё сошлось, всё стало понятным и ярким. Заботило одно: попадаешь ты в струю времени или нет.
– Когда это дело твоё, цель сама начинает вырабатывать энергию…
– И поэтому даже когда я читала страшные допросы, или переписку какую-то кровавую, я погружалась не в само событие, а в процесс воссоздания общей мозаики фактов. Если обнаруженный пазл ровно ложился в картину, я его описывала…Так было у меня с Берггольц, где возникло дело с Лебединским и Мусей. Я знала о нём только по намёкам, но понимала: там произошла какая-то жуткая история, и в конце концов я её нащупала.
– То есть вы проводите расследование?
– Да. Каждый раз – следственный эксперимент. По обрывкам писем и свидетельств догадываюсь о целом, достраиваю сюжет событий. Эта работа имеет и дежурную, и совершенно упоительную сторону.
– Можно не так угадать?
– Можно. Вот поэтому я всегда и говорю, что мне нужно три свидетельства. Бумаги, документы… Вот сейчас у меня будет очень скандальный текст, который обрушит репутации известных людей.
– Потому что этого требует контекст вашей истории.
– Нет. Есть ещё истории про людей, которых невинно оклеветали. И тут для меня действительно дело принципиальное… Самое драматичное, что с 90-го года нас перестали пускать в архивы. И узнать об этой эпохе в полной мере мы все равно не можем. Самые тяжёлые загадки – агентура. За каждой крупной личностью шёл обязательно след. И за менее значимыми шла какая-то слежка. Снимались показания с людей не на Лубянке, а в каких-то домиках.
– Это желание не засвечивать этих людей?
– И не засвечивать. Не будут тогда новые агенты приходить. Агентура – это вещь у нас святая. Это во-первых. Во-вторых, руководит страной силовой блок. Что это он нас будет пускать в святая святых? У нас Дзержинский и Сталин стали фактически фигурами дорогими и любимыми.
– В одном интервью вы предположили, что когда-нибудь Лубянка будет музеем, и мы будем ходить туда, как в бывший концлагерь.
– Будем, я в этом уверена. А иначе здесь, в России, ничего не останется. Потому что не оплакано огромное количество людей, у которых жизнь просто отняли, вырвали.
– Не просто не похороненный Ленин.
– Нет. Тут произошла серьёзная катастрофа, и её до сих пор еще не начали осознавать.
– Поэтому она может повториться.
– Конечно! Она воспроизводится мгновенно. По одному щелчку пальцами все вспоминают про пятую колонну, вылезает из прошлого понятие «иностранные агенты». Чудовища минувших дней просто спят, а потом поднимают голову… Продвинутые люди это прекрасно понимали и мучительно с этим боролись. Понимали, что дракон – это такой зверь, который в каждом сидит, а не снаружи бегает. Больше того, я вам скажу, именно когда выступаешь с критикой советской жизни, сталкиваешься с самым ярким негодованием: обязательно приходят люди, которые начинают буквально желчью исходить. А ведь нация может самосохраниться только при условии покаяния. Немцы, например, покаялись, потому что они находились внутри системы, которая с них этого потребовала. С нас потребовать некому. Понимаете? В этом наше несчастье.
– В Литературном музее в Трубниках, где вы работаете, к юбилею Марины Цветаевой прошла масштабная и оригинальная выставка, где каждая комната отражала пространство жизни поэта: Трёхпрудный, Коктебель, Борисоглебский переулок, эмиграция, Елабуга… Вы были организатором проекта и водили экскурсии, и сейчас по сети гуляют ваши так называемые «ходилки» по музею. Появилось ли у Вас желание написать о Марине Цветаевой?
– Лучшая биография поэта, думаю, уже создана Марией Белкиной, это книга «Скрещение судеб»… У меня в компьютере лежит треть книги «Душа Москвы» про цветаевскую Москву, со всеми глубинами, с новыми фактами и моей интерпретацией. Но говорить только про этого поэта не вижу смысла. Столько создано монографий!
– Наверное, потому эта работа не складывается, что ещё какого-то материала не хватает…
– Может быть. Цветаева просто такой персонаж, который без меня точно обойдётся. Единственное, что возникает, – искушение написать роман о судьбе Ариадны, как про Берггольц, и включить туда все цветаевские куски: они туда хорошо встают, если иметь в виду главы про родителей. У меня уже выписаны истории об отце и матери Эфрона: как они жили в Москве, что с ними происходило. Эта книжка историческая, сложная, а я хочу сделать её более человеческой. Но это всё пока задумки… Должен быть знак. Должно что-то такое звякнуть, чтобы я захотела этой темой вплотную заняться. Кстати, в шестом номере «Знамени» в 2017 году опубликована глава из книги «Именной указатель».
Она, собственно, и есть кусок будущей книги, много чего объясняющий.
– Значит, всё-таки исследователем Марины Цветаевой вы себя не можете назвать?
– Нет. Я с ней лишь пересекаюсь. Так получилось, что, изучая старую Москву, я «проникла» в загадочный дом Скрябиных и обнаружила, что его посещала некая чекистка Лена Усиевич, дружившая с Мариной Цветаевой… А вообще, я вам скажу, прозу Цветаевой ещё никто нормально не откомментировал. Когда я занималась Гончаровой, выяснилось: всё, что мы читаем, – это лишь фрагмент очерка… Кто такой исследователь? Он ставит себе задачу и последовательно идёт к ней. А у меня – если на моём пути возникает неясный кусок, я им занимаюсь. Работая над книгами «Дальний Чистополь на Каме» и «Странники войны», где половина повествования посвящена Муру, я, конечно, не обошла тему гибели Марины Цветаевой, очень подробно её разбираю, нахожу белые пятна.
– Осталось непонятным, почему, если в похоронах участвовали трое молодых людей, место захоронения всё же не установлено? Анастасия Цветаева говорила, что по телефону представители местной администрации её заверили о создании специальной комиссии по поиску могилы поэта, но позже следов комиссии никто нигде не обнаружил. Почему?
– Ну да. Я трижды была в Елабуге. Там всё очень мутно. Если брать ситуацию во время войны, для любой партийной власти факт неких самоубийств на их территории уже очень неприятен. Поэтому такого рода происшествия скрывались. Потом, когда к проблеме вернулись в 60-е годы, время было упущено. Кроме того, местные жители мне объяснили, что на Елабужском кладбище гуляют плавуны, а потому вообще любое исследование могилы сомнительно.
– Болотистая местность?
– Да. Пласты земли подвижны. Это значит, что под любым памятником может оказаться совсем другое захоронение.
– Поэтому вы считаете, что искать могилу Марины Цветаевой не стоит?
– Сейчас, мне кажется, это уже абсурд. Местные жители указывают на восемь предполагаемых могил. Там есть свои расчётчики, люди, которые этим живут. Я сейчас даже не хочу вступать на этот скользкий путь… У меня в своё время тоже была своя версия, но в какой-то момент это всё стало не нужным по одной простой причине: я поняла, что так судьбе было угодно, оставить тайну…
– То есть здесь какой-то мистический момент?
– Конечно. У меня был серьёзный разговор с Вадимом Сикорским, который там присутствовал. Он написал какие-то невнятные воспоминания, и я опять же к нему привязалась. Он мне сказал очень простую вещь. Ему было 18 лет, и он пребывал весь в дыму, как он выразился. Мать уехала, а он напился и ничего поэтому не помнил. Вот и всё. Этот факт объяснил мне психологическое состояние Вадима и всё, что происходило в эвакуации. Парень ничего, конечно, не помнил. Осознал он, с кем пересёкся, спустя два года, уже в Литинституте. Так устроена жизнь. Когда мы внутри события, мы много не замечаем. Во время войны люди пытались выжить. Это затмевало всё. Мало того, не надо забывать, что Цветаеву просто многие боялись, потому что муж и дочь сидели, она – бывшая эмигрантка. За общение, за переписывание стихов, как выяснил тот же Шенталинский, было посажено несколько человек. Никто не знал, с какой стороны выстрелит.
– Как вы объясняете гибель Марины Цветаевой?
– Мне абсолютно понятна эта история. 31 августа не случайно возникает. Потому что все разговоры матери и сына последние десяти дней сводились к тому, что он хочет учиться в нормальной школе, с нормальными детьми. Он хотел социализироваться, она же, наоборот, cпрятаться, уйти подальше от всяких государственных учреждений. У них были разнонаправленные действия. И тогда у неё произошло, психиатры это хорошо объясняют, элементарное вытеснение: она придумала себе, что без неё мальчик будет пристроен, что она стоит у него на пути. И 31 число, последний день лета, тут связан именно с тем, что 1 сентября сыну идти в школу. Она освобождает ему путь. Она его отпускает. Марина Цветаева боится своего паспорта, своего прошлого, она тяготеет над сыном, в конце концов. А Георгий был центром вселенной. И еще один важный факт – творчество. Она говорила: когда закончатся стихи, закончусь я. Стихи закончились в начале 41-го года. И не было никаких мотиваций вообще жить. В единственном случае, если бы, допустим, она выехала в октябре с Тарковским, с Пастернаком и прочими своими друзьями, если бы её держали за руки, о ней бы заботились, может быть, её жизнь бы как-то продлилась.
Но мы видим обстановку в Чистополе по Елене Санниковой, которая повесилась через два дня на батарее. Женщина просто испугалась, что не сможет прокормить двух детей. В эвакуации кончали с собой множество людей. Мы про это мало знаем. Но я в своей эвакуационной книжке, когда вложила эту историю в контекст, — она сразу прочиталась по-другому, стала нормальным страшным бытом того времени. Писатели обращались в Союз писателей (я нашла эти письма) примерно с такими требованиями: «Если нам не будет оказано должное внимание, мы покончим с собой, как Цветаева». Вообще, всё, чем я занимаюсь, начиная с «Узла», это выстраивание событий в историческом контексте.




