Игорь Савельев родился в 1983 году в Уфе. Окончил филфак Башкирского государственного университета. Романы, повести, рассказы публиковались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Урал», «Искусство кино», «Бельские просторы» и др. Четыре книги выпущены издательством «Эксмо» в серии «Проза отчаянного поколения. Игорь Савельев», две — издательством L’Aube в переводе на французский язык. Лауреат второго сезона премии «Лицей» в номинации «Проза» (2018).
Так говорил каудильо
(О книге: Вячеслав Ставецкий. Жизнь А.Г.: роман. — М.: Редакция Елены Шубиной, 2019. — Серия «Неисторический роман»)
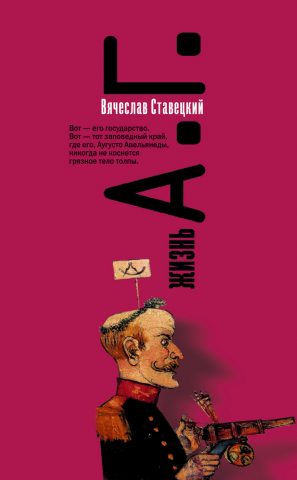 В одной рецензии, или уже не одной, «Жизнь А.Г.» Вячеслава Ставецкого сравнили с «Осенью патриарха». Ожидаемо и неизбежно. Но если проводить такую параллель, нельзя тогда не поехать по «национальным» рельсам: Маркес обобщил в своем герое черты многих диктаторов из разных уголков испаноязычного пространства. Тогда российскому автору сама история подсказывала более простой путь — тем более очередную «осень» мы наблюдаем прямо сейчас буквально за окном. Но Вячеслав Ставецкий обращается к условно-испанскому материалу. Причем, если каудильо Аугусто Авельянеда (он же А.Г.) предстает в его романе такой проекцией Вечного Жида, то реальный каудильо Франсиско Франко с его биографией, казалось бы, больше подходил на эту роль. Хотя бы потому, что все современные ему диктаторы давно уж были повешены или пострелялись, а он всё носил и носил упомянутый титул — до середины семидесятых, гораздо хитроумнее, чем А.Г., выкрутившись из авантюры со Второй мировой. (Книжный А.Г. сложил голову гораздо раньше — где-то на фоне триумфа Гагарина, причем незаметно для читателя превратившись уже в дряхлого старика). Но Ставецкого на самом деле не интересуют ни биография Франко, ни испанская революция, ни военные амбиции или отсутствие таковых… Ни — даже — жанр докьюментари.
В одной рецензии, или уже не одной, «Жизнь А.Г.» Вячеслава Ставецкого сравнили с «Осенью патриарха». Ожидаемо и неизбежно. Но если проводить такую параллель, нельзя тогда не поехать по «национальным» рельсам: Маркес обобщил в своем герое черты многих диктаторов из разных уголков испаноязычного пространства. Тогда российскому автору сама история подсказывала более простой путь — тем более очередную «осень» мы наблюдаем прямо сейчас буквально за окном. Но Вячеслав Ставецкий обращается к условно-испанскому материалу. Причем, если каудильо Аугусто Авельянеда (он же А.Г.) предстает в его романе такой проекцией Вечного Жида, то реальный каудильо Франсиско Франко с его биографией, казалось бы, больше подходил на эту роль. Хотя бы потому, что все современные ему диктаторы давно уж были повешены или пострелялись, а он всё носил и носил упомянутый титул — до середины семидесятых, гораздо хитроумнее, чем А.Г., выкрутившись из авантюры со Второй мировой. (Книжный А.Г. сложил голову гораздо раньше — где-то на фоне триумфа Гагарина, причем незаметно для читателя превратившись уже в дряхлого старика). Но Ставецкого на самом деле не интересуют ни биография Франко, ни испанская революция, ни военные амбиции или отсутствие таковых… Ни — даже — жанр докьюментари.
Как и любой подчеркнуто «ненациональный» текст, появляющийся в национальной литературе, роман «Жизнь А.Г.» поначалу озадачивает и заставляет читателя спрашивать, зачем это нужно («это» — как минимум — испанский маскарад). Тем более роман написан блестяще, а значит, не вызывает других вопросов. Параллель с «Осенью патриарха» — самая очевидная, но, как становится понятно по ходу чтения, не самая верная. В какой-то момент в качестве темы, которую развивает русский писатель, вдруг прощупывается другой «вечный сюжет» (и тоже, кстати, испанский текст), — но и тема «Дон Кихота» не оказывается основной. Психология насилия, влияние длящегося страдания, унижений и жестоких антропологических экспериментов на личность? — тоже да, и даже с заходом в область библейского, но А.Г., десятилетиями хитроумно терзаемый толпой в клетке на людных площадях, пожалуй, все же не тянет на Христа.
Самым ценным в конце концов кажется то, что происходит «на фоне» эгоцентричного диктатора, особенно в тот момент, когда он, во многом сам устав от собственной личности, вдруг почти освобождает пространство романа от своей рефлексии. Бесконечные спирали хаоса с обесцениванием прошлой эпохи и пародийным возвеличиванием позапрошлой — то, что десятилетиями проходит Испания Ставецкого (в отличие от Испании реальной, никогда не знавшей, например, революционной победы коммунистических сил). Это проецируется на Россию даже в мелочах — таких, как периодическое обесценивание денег с разными портретами или городской электротранспорт в качестве слегка комичного внешне орудия борьбы («троллейбусные баррикады» все мы прекрасно помним). И сделанные на полях наблюдения о психологии общества, раз за разом переживающего всё это, куда интереснее, чем препарирование распада культа личности, несколько, на мой вкус, затянувшееся.
Жизнь А.Г. можно разделить на пять частей. Первая: период реставрации империи, период внешнего взлета Авельянеды и апофеоз его культа, часть, написанная, кстати, плотнее, сильнее, «смачнее» других (это даже настораживает, заставляя подозревать автора в зачарованности диктатурой подобного типа). Вторая: годы, проведенные поверженным Авельянедой в клетке, каскад унижений, бесконечное погружение в которые, как лестница в ад, никак не заканчивается, возможно, могло отвадить от романа тех читателей, которые привыкли слишком сопереживать герою. Третья: парадоксальное спасение личности А.Г. путем его перерождения в клоуна, юродивого, непотребствами своими обличающего пороки общества. (Время всё сжимается, условные части сокращаются, убыстряются, иногда на нескольких страницах проглатывая годы и чуть ли не десятилетия; всё как в человеческой жизни.) Четвертая: очередная революция оказывается описанной гораздо более подробно, чем малоинтересная уже всем жизнь А.Г. — надоевшего толпе старика на грани полоумия. Пятая — сознательно замедленное, эпичное, торжественное (местами до пафоса) описание казни Авельянеды, о преступлениях которого вспомнил очередной общественный строй: Авельянеда жил, конечно, не так долго, как маркесовский Сакариас, но на фоне бесконечных реформ и революций получилось, что почти. Это как сегодня Россия бы вспомнила с удивлением, что жив Горбачев (на фоне любовно описанной Ставецким гильотины параллель, конечно, не очень хорошая) — если бы у нас не было той самой «гласности» и о жизни бывшего генсека ничего не сообщалось бы лет двадцать. Или более понятная параллель, связанная с молчаливыми нравами советской прессы: из интервью 1986 года миллионы читателей недоуменно узнали, что Молотов все еще жив.
В условной части первой эйфорическое строительство испанской империи 30-х обобщает черты того, что происходило в целом ряде европейских обществ (а разве в СССР не занимались тем же, захлебываясь от газетного восторга, как хорошо все складывается с «Больше чугуна и стали»?). Именно поэтому автор ювелирно работает с национальной и исторической фактурой, чтобы сохранить эту ноту обобщения, а не свести к слегка шаржированному портрету конкретного режима Франко. То есть, например, активно упоминая Нерона или Наполеона (у сентиментального диктатора А.Г. много кумиров), он умудряется ни разу не назвать фамилий Гитлера и Муссолини, хотя они предстают старшими товарищами Авельянеды, его партнерами по «оси зла» и даже персонажами одной из сцен. Потому что нет реальной фамилии — значит, нет четкой привязки к дате, месту, и даже Вторая мировая может выглядеть абстракцией, ни разу не поименованная как-либо конкретно.
Если поддаться очарованию плотного мускулистого текста и поплыть по течению всеобщих прославлений А.Г., то можно обнаружить себя сочувствующим довольно странному взгляду на диктатуру. Потому что мы привыкли видеть либо апологетику (когда даже поражение описывается через пафос, что, впрочем, вполне соотносится со стилем финала «Жизни А.Г.»), либо разговор о преступлениях режима с той или иной степенью художественности. Здесь — третий взгляд: Ставецкий предлагает пожалеть режим, причем его жалко с самого начала. И с этой точки зрения Авельянеда выглядит довольно безобидно, а репрессии, которые автор и не думает скрывать или оправдывать, сопровождаются читательской симпатией и жалостью к их творцу. Переживания каудильо о том, что он согласился на союз с Гитлером вместо форсированного развития космонавтики — «Вот тогда бы его Империя раскинулась на Луне, Венере и Марсе, на обширных просторах далеких планет, а немцам и итальянцам, втянувшим его в эту проклятую авантюру, пусть бы осталась их паршивая Земля», — почти готовы встретить полное читательское понимание. Но тут как-то вдруг вспоминаешь, что все диктатуры мечтали освоить далекие планеты, океанские впадины или что-нибудь еще, но чистота этих романтических устремлений не только не мешала, а, в каком-то смысле, и помогала им массово истреблять подданных.
Та серьезность, с которой Вячеслав Ставецкий имитирует эйфорию (надеюсь, что имитирует), заставляет вспомнить передовицы «Правды»: «По всей Испании с севера на юг и с востока на запад пролегли широкие магистрали, наполнившие глухую иберийскую степь ревом автомобильных двигателей. Болота смирились под натиском экскаваторов, и на месте зловонных топей возникли цветущие села, где даже мухи славили Великого Устроителя, подарившего им новую жизнь. Страна обросла мускулами заводов и фабрик». Заражая подданных личным примером на всех великих стройках, Авельянеда пересаживается на дирижабль, что напоминает другие образцы сатиры на диктатуры. «Гениалиссимус разъезжал по всей стране и требовал увеличить добычу нефти, выплавку стали, изучал проблемы яйценоскости кур-несушек и наблюдал за окотом овец, а поскольку страна большая, за всем не усмотришь, он стал совершать регулярные инспекционные облеты на космическом аппарате», — это Войнович, но я цитирую его не потому, что у меня такая хорошая память, а потому, что в дни, когда я читал «Жизнь А.Г.», френды в фейсбуке очень вовремя нашли, чем проиллюстрировать погружение Путина в глубоководном аппарате во время массовых протестов в Москве.
Далее Ставецкий пытается выправить неизбежный изъян избранного им стиля: на фоне имперской эйфории Авельянеда с его мечтами получался личностью не сложнее, чем «Великий диктатор» в исполнении Чаплина. Когда после революции он оказывается в клетке, ему предстоит демонстрировать всю психологическую сложность медленного слома личности уже всерьез, и это непростая задача. Погружение в бездну становится нарочито медленным, каждый этап кризиса Авельянеды — скрупулезно описанным, и эта неравномерность бросается в глаза, хотя она и оправдана идеей бесконечности страданий в невозможности покончить с собой. Опору Авельянеда находит в появлении своего Санчо Панса, сопровождающего его клетку по испанским городам, и в тактике юродивого: в конце концов, по мере того, как снова крепнет его личность и рассудок в этом неочевидном сопротивлении судьбе, А.Г. теряет себя и уже сам не верит, что был лидером нации («Все эти дни его тяготил, принимая различные формы, единый по своей сути вопрос: кем он был? зачем?»).
Сначала Авельянеде были нужны слава, страх, обожание одних и ненависть других, короче говоря — роль сверхчеловека (трактат о сверхчеловеке он и пишет в тот момент, когда в его дворце свершается первый мятеж, и дальше последние дни и месяцы в статусе каудильо превращаются в тягучее ожидание конца, но это, к сожалению для него, не конец). Вместо этого он получил насмешки, отсутствие не только почитания, но и страха, унижение расчеловечивания — десятилетиями сидя в клетке, он был вынужден испражняться публично, питаться плевками и переносить смех публики, — а потом «сверхчеловек» получил забвение, которое оказалось даже хуже насмешек. Авельянеда мечтал о смерти — но, опять же, десятилетия попыток суицида ни к чему не привели. В конце, перестав что-либо ждать, он получает всё. И казнь. И почтительное молчание толпы перед гильотиной: когда-то даже ненависть была бы почетнее смеха, но в толпе, после свержения его режима пережившей много чего еще, не наблюдается уже даже ненависти. В долгой, долгой сцене Вячеслав Ставецкий избирает стиль реквиема, гимна, набата, даже мартиролога, когда Авельянеда читает прежние названия улиц, прикрытые бумажками с новыми «коммунистическими» именами.
В этом выводе — позапрошлая эпоха будет неизбежно поднята на щит, стоит только уйти прошлой, — есть вдруг одна неочевидная, но все больше тревожащая нота. Автор не выпячивает ее, но это постоянно бросается в глаза и читателю, и герою, раздражая последнего. Когда Авельянеда рассматривает мундир, десятилетия провисевший в музее и принесенный ему для казни. Когда он замечает, что медали у новоявленных сторонников империи ненастоящие…
Когда придет время позапрошлой эпохе восставать из пепла — это непременно будет удел ряженых, которые подменят все смыслы красочными пустышками. Что мы и наблюдаем.
Спасибо за то, что читаете Текстуру! Приглашаем вас подписаться на нашу рассылку. Новые публикации, свежие новости, приглашения на мероприятия (в том числе закрытые), а также кое-что, о чем мы не говорим широкой публике, — только в рассылке портала Textura!




