Ирина Бенционовна Роднянская – критик, литературовед. Родилась в Харькове. Живет в Москве. Окончила Московский библиотечный институт (ныне Институт культуры). В 1987 году – сотрудник отдела поэзии журнала «Новый мир», с 1988 по 2008 год руководила отделом критики этого журнала. В настоящее время сотрудник редакции энциклопедического словаря «Русские писатели. 1800–1917» (автор и редактор). Лауреат Новой Пушкинской премии за 2010 год, премии им. А.И. Солженицына (2014), а также журнальных премий «Нового мира» (2000), «Вопросов литературы» (2010). Автор книг «Художник в поисках истины» (1989), «Литературное семилетие» (1994), «Движение литературы» (т. 1–2; 2006), «Мысли о поэзии в нулевые годы» (2010) и др.
Ирина Роднянская о литературных впечатлениях 2017 года
В минувшем году я, скажем так, «не служила» литературным критиком – несла другую повинность, «словарную», неотложную и неизбежную. Поэтому не видела себя подходящим кандидатом на подведение каких бы то ни было отслеженных итогов. Но при ближайшем рассмотрении невесть откуда набралось немало впечатлений от всё-таки прочитанного в разных жанрах и форматах. Увы, по указанной выше причине это не составит связной панорамы, но что-то, быть может, добавит к более систематичным отчётам коллег.
I.
Проза
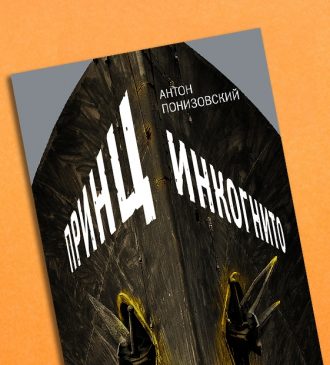 Итак, начну, как водится, с романов. Нынешнего букеровского списка не касаюсь, ибо его не освоила. Но прочитала два романа, которые, предполагаю, войдут в премиальные списки 2-го полугодия истекшего года. Это «Принц Инкогнито» Антона Понизовского (автора, которому я выдала много авансов за дебют – «Обращение в слух») и «Прыжок в длину» Ольги Славниковой (оба читаны в журнальных вариантах – в «Новом мире», № 8, и «Знамени», № 7, 8; теперь, кажется, АСТ уже позаботилось об их книжном издании). Мысленно объединяю эти два резко индивидуальных произведения вот по каким причинам. Во-первых, они оба – о схватываемой на лету и сколь возможно широко зачерпываемой современности, в узнаваемых лицах и положениях (а теперь это редкость при ощутимом сдвиге прозы в историю). Во-вторых, это не просто хороший, а искуснейший уровень письма (у Славниковой, как всегда, искусный до утомления). И – сюжетосложение, обеспечившее настоящий драйв (с читательским трепетом: чем дело кончится). Спасибо авторам за это. Притом в обоих случаях фабулы извлечены, что называется, «из газет». И это тоже похвально, если вспомнить опыт Достоевского, у которого из сообщений прессы проклюнулись и «Бесы», и «Кроткая». Понизовский отправился от факта общественного внимания к
Итак, начну, как водится, с романов. Нынешнего букеровского списка не касаюсь, ибо его не освоила. Но прочитала два романа, которые, предполагаю, войдут в премиальные списки 2-го полугодия истекшего года. Это «Принц Инкогнито» Антона Понизовского (автора, которому я выдала много авансов за дебют – «Обращение в слух») и «Прыжок в длину» Ольги Славниковой (оба читаны в журнальных вариантах – в «Новом мире», № 8, и «Знамени», № 7, 8; теперь, кажется, АСТ уже позаботилось об их книжном издании). Мысленно объединяю эти два резко индивидуальных произведения вот по каким причинам. Во-первых, они оба – о схватываемой на лету и сколь возможно широко зачерпываемой современности, в узнаваемых лицах и положениях (а теперь это редкость при ощутимом сдвиге прозы в историю). Во-вторых, это не просто хороший, а искуснейший уровень письма (у Славниковой, как всегда, искусный до утомления). И – сюжетосложение, обеспечившее настоящий драйв (с читательским трепетом: чем дело кончится). Спасибо авторам за это. Притом в обоих случаях фабулы извлечены, что называется, «из газет». И это тоже похвально, если вспомнить опыт Достоевского, у которого из сообщений прессы проклюнулись и «Бесы», и «Кроткая». Понизовский отправился от факта общественного внимания к  феномену регулярных (!) пожаров в приютах и диспансерах для психосоматиков и прочих скорбных разумом; Славникова воспользовалась живым ныне интересом к спортивной карьере людей с ограниченными возможностями (попросту говоря, инвалидов). Но текущий информационный эпизод, заводивший Достоевского вглубь социальной антропологии, прогностики и метафизики, в новейших образцах приносит куда более скудные результаты. Мы и без Понизовского знаем (если согласимся знать), что каждый человек рождается «принцем» – «по образу и подобию»; мы не хуже Славниковой умеем утешать себя тем, что не бывает ненужной жертвы, напрасного подвига, и горечь того и другого (если автор, выполняющий роль Всевышнего, очень постарается) обернётся трагедийно-героическим триумфом… И никакие великолепные «испанские» страницы, вводимые Понизовским в роман через сознание запертого в ловушке тела гениального героя, никакие тончайшие игры любви-ненависти, накрывшие своими сетями персонажей Славниковой, не спасают от робкого вопроса о «мессидже» – о том, в чём зерно откровения. Мне грустно это констатировать; ведь до чего хорошее чтение, «качественное»!
феномену регулярных (!) пожаров в приютах и диспансерах для психосоматиков и прочих скорбных разумом; Славникова воспользовалась живым ныне интересом к спортивной карьере людей с ограниченными возможностями (попросту говоря, инвалидов). Но текущий информационный эпизод, заводивший Достоевского вглубь социальной антропологии, прогностики и метафизики, в новейших образцах приносит куда более скудные результаты. Мы и без Понизовского знаем (если согласимся знать), что каждый человек рождается «принцем» – «по образу и подобию»; мы не хуже Славниковой умеем утешать себя тем, что не бывает ненужной жертвы, напрасного подвига, и горечь того и другого (если автор, выполняющий роль Всевышнего, очень постарается) обернётся трагедийно-героическим триумфом… И никакие великолепные «испанские» страницы, вводимые Понизовским в роман через сознание запертого в ловушке тела гениального героя, никакие тончайшие игры любви-ненависти, накрывшие своими сетями персонажей Славниковой, не спасают от робкого вопроса о «мессидже» – о том, в чём зерно откровения. Мне грустно это констатировать; ведь до чего хорошее чтение, «качественное»!
А вот в автопсихологическом романе Юрия Малецкого «Улыбнись навсегда» (см. одноименную книгу – СПб., «Алетейя»), где рассказчик закрыт на замок примерно в том же заведении, что и персонажи Понизовского (правда, в более благоустроенной, зарубежной версии), отверзаются дали и выси человеческой прикосновенности к Богу и миру – миру страдания, миру искусства, миру крылатого юмора, победительно преображающего клинические немощи. Не буду повторять написанное мною во врезке к этой книге и к этому ещё почти никем не прочитанному роману, но прошу читателей не пропустить его мимо своего внимания.
Однако особенным утешением на территории большой прозы стали для меня главы из романа Олега Ермакова «Радуга и вереск» («Новый мир», № 10). Это повествование о родной автору Смоленщине первой половины ХVII в., а представленные фрагменты относятся к историческому эпизоду осады русскими войсками Смоленска, оставшегося по окончании Смутного времени под польской короной. Русская осада 1630-х гг., как свидетельствует хроника тех событий, не принесла нам победы, и освобождение Смоленска от поляков совершилось лишь в 1654 г. Дотянет ли Ермаков свой «нарратив» до этого рубежа и понадобится ли ему такой финал, мне неведомо (полностью книгу намерено издать «Время»), но прочитанное уже обещает opus magnum среди работ чрезвычайно значительного писателя и, заодно, эпический монумент смоленской земле. За годы, минувшие со времени афганских рассказов и афганского же романа «Знак зверя», Ермаковым создано немало обширных композиций, но для меня он, грешным делом, остался автором того незабываемого дебюта (выделю из последующего разве что роман «Холст»). И вот теперь… Пластика письма удивительная, защищающая честь классической русской прозы; от морозной зимы в смоленском лесу стынет кровь, и невольно кутаешься, сидя в натопленной комнате. Гений места дышит во множестве достоверностей (плод наблюдательного воображения, а не педантического штудирования): от тактичного многоязычия книги (украинские, белорусские, польские реплики и речения; название – перевод с белорусского и польского имён героини и героя) веет совершенно особым колоритом пограничного края, что отучает от историко-политического верхоглядства. Но и это ещё не главное. Роман – приключенческий – в том смысле, в каком привыкли думать о романах Вальтера Скотта и, не без оглядки на них, о пушкинской «Капитанской дочке». Да, сознательно или спонтанно, Ермаков пишет свою «Капитанскую дочку», но дело в том, что юный герой, с кем обеспечено сочувственное самоотождествление читателя, ермаковский «Петруша Гринёв», сберегающий честь смолоду и влюбленный в чистую девушку, – он-то не «наш»: это молодой шляхтич Николаус Вржосек, присягнувший сражаться с русскими. Неслыханная дерзость со стороны Ермакова! Притом не знаменующая ни малейшей измены русской стороне в мыслях повествователя. Просто Ермаков никогда не утрачивает сочувствия любому втянутому в войну люду вопреки (чуждой писателю) героизации ратного труда. Про его афганские страницы я уже когда-то писала: «…дружелюбное, без тени ксенофобии, внимание к чуждому быту и обычаям, к не нашему укладу и вере… в лучших правилах Пушкина, Лермонтова и Толстого». В смоленском романе он верен себе. А чем кончит – не знаю. Дождаться бы…
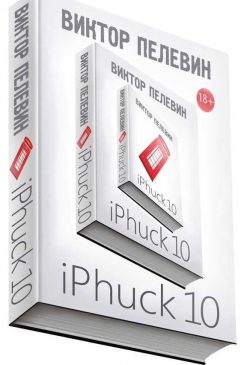 Перехожу в другую, для кого-то специфическую, зону, но в моём читательском опыте не отделённую от «большой» прозы. Виктор Пелевин выпустил в «Э» свой ежегодный роман с криптообсценным названием. Я не пропускаю ни одной книги Пелевина и даже стараюсь отозваться на каждую (впрочем, после вершинного «S.N.U.F.F.» хотелось – но не успелось – написать только о «Смотрителе»). Новый роман отрецензирован в Сети Галиной Юзефович, которая ставит его очень высоко, даже выше моего помянутого фаворита, к её отзыву https://meduza.io/feature/2017/09/26/iphuck-10-luchshiy-roman-viktora-pelevina-za-desyat-let отсылаю за подробностями, а с оценкой значимости и знаковости романа соглашаюсь. Сначала (хотя какое там «начало» – проглатываешь одним махом, стараясь и мыслью работать в заданном темпе) я преисполнилась некоего скепсиса: кто не обличал такие, скажем, образчики актуального искусства, как консервные банки с авторским дерьмом? Хотя мне мила в своей элементарности пелевинская разгадка подобных казусов: исходная капитализация «проекта» плюс куратор (в каковые надо выбиться непростыми путями, и уж выбившийся «всё объяснит») обеспечивают этакой банке занебесную товарную стоимость. Продвигаясь далее и пытаясь извинить своё невежество по части некоторых компьютерных приколов, я не без раздражения мысленно обозвала этот роман «эротическим сном программиста». Но под конец стало неимоверно грустно. Во-первых, как ехидно заметила Юзефович, в романе почти нет «стандартного для Пелевина буддистского бормотания». Чему ж тут радоваться? Пришёл к иссяканию последний источник энтузиазма, попытка открыть слепым глаза на кредо, почитаемое его адептом за истину. Вместо этого появился фрейдистский или околофрейдистский мотив: источник творчества – травма. Искусство – порождение причиняемой извне боли, и никаких иных стимулов для его продуцирования не существует. Этот тезис в контексте сюжета видится не пришедшейся к месту игрой ума отпрысков венского доктора, а искренним признанием самого автора. И это первое сочинение Пелевина, где человеку как натуральному изделию Бога или Природы не оставляется никаких шансов. Пелевин здесь – последовательнейший трансгуманист, но, в отличие от всей их братии, с нескрываемым отвращением описывающий трансгуманистическую перспективу (отодвинутую, согласно хронологии романа, всего на двадцать лет вперёд от истекшего года). Другими словами, гуманист-капитулянт. «Что есть твоё сознание, человек, как не вместилище боли? И отчего самая страшная твоя боль всегда о том, что твоя боль скоро кончится?… Если люди создадут подобный себе разум, способный страдать, тот рано или поздно увидит, что неизменное состояние лучше непредсказуемо меняющегося потока сенсорной информации, окрашенного болью. Что же он сделает? Да просто себя выключит… Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть в стерильные глубины космоса». Тушим свет. Инопланетяне, те самые, встреча с коими так дразнит массовое воображение, уже опередили нас во вселенском суициде. Не дураки же, чтобы разделять гамлетовские опасения: «…in that sleep of death what dreams may come?»
Перехожу в другую, для кого-то специфическую, зону, но в моём читательском опыте не отделённую от «большой» прозы. Виктор Пелевин выпустил в «Э» свой ежегодный роман с криптообсценным названием. Я не пропускаю ни одной книги Пелевина и даже стараюсь отозваться на каждую (впрочем, после вершинного «S.N.U.F.F.» хотелось – но не успелось – написать только о «Смотрителе»). Новый роман отрецензирован в Сети Галиной Юзефович, которая ставит его очень высоко, даже выше моего помянутого фаворита, к её отзыву https://meduza.io/feature/2017/09/26/iphuck-10-luchshiy-roman-viktora-pelevina-za-desyat-let отсылаю за подробностями, а с оценкой значимости и знаковости романа соглашаюсь. Сначала (хотя какое там «начало» – проглатываешь одним махом, стараясь и мыслью работать в заданном темпе) я преисполнилась некоего скепсиса: кто не обличал такие, скажем, образчики актуального искусства, как консервные банки с авторским дерьмом? Хотя мне мила в своей элементарности пелевинская разгадка подобных казусов: исходная капитализация «проекта» плюс куратор (в каковые надо выбиться непростыми путями, и уж выбившийся «всё объяснит») обеспечивают этакой банке занебесную товарную стоимость. Продвигаясь далее и пытаясь извинить своё невежество по части некоторых компьютерных приколов, я не без раздражения мысленно обозвала этот роман «эротическим сном программиста». Но под конец стало неимоверно грустно. Во-первых, как ехидно заметила Юзефович, в романе почти нет «стандартного для Пелевина буддистского бормотания». Чему ж тут радоваться? Пришёл к иссяканию последний источник энтузиазма, попытка открыть слепым глаза на кредо, почитаемое его адептом за истину. Вместо этого появился фрейдистский или околофрейдистский мотив: источник творчества – травма. Искусство – порождение причиняемой извне боли, и никаких иных стимулов для его продуцирования не существует. Этот тезис в контексте сюжета видится не пришедшейся к месту игрой ума отпрысков венского доктора, а искренним признанием самого автора. И это первое сочинение Пелевина, где человеку как натуральному изделию Бога или Природы не оставляется никаких шансов. Пелевин здесь – последовательнейший трансгуманист, но, в отличие от всей их братии, с нескрываемым отвращением описывающий трансгуманистическую перспективу (отодвинутую, согласно хронологии романа, всего на двадцать лет вперёд от истекшего года). Другими словами, гуманист-капитулянт. «Что есть твоё сознание, человек, как не вместилище боли? И отчего самая страшная твоя боль всегда о том, что твоя боль скоро кончится?… Если люди создадут подобный себе разум, способный страдать, тот рано или поздно увидит, что неизменное состояние лучше непредсказуемо меняющегося потока сенсорной информации, окрашенного болью. Что же он сделает? Да просто себя выключит… Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть в стерильные глубины космоса». Тушим свет. Инопланетяне, те самые, встреча с коими так дразнит массовое воображение, уже опередили нас во вселенском суициде. Не дураки же, чтобы разделять гамлетовские опасения: «…in that sleep of death what dreams may come?»
«Ночь души» описана христианскими мистиками не хуже, чем Пелевиным. Не буду впадать в неуместную проповедь. Лучше назову еще один книжный плод фантастики – «Щит Ареса» Алексея Смирнова (М., «Новый Хронограф»; журнальный вариант – № 5 «Нового мира» http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2017/5/shit-aresa.html; жанр автором не обозначен). Это весёлое и занимательное полуподростковое-полувзрослое чтение, где боги греческого Олимпа, герои и иные исчадия античной мифологии воюют, мирятся, интригуют и флиртуют между собой, втягивая в свои делишки смертных. Автор не связывает себя общепринятыми версиями, а изобретает собственные. Множество аллюзий на современность, но еще больше радости от всяческого житейского и этического позитива, пронизывающего эти хитроумные и поучительные приключения на не то плоской, как блин или этот самый щит, не то (о, гениальная догадка!) шарообразной Земле. Отличный повод для осмысленного читательского отдыха.
Русский рассказ. Как-то Антон Павлович заметил Бунину, что после того, как он, Чехов, не без долгих трудов и вопреки непониманию критики, доказал правоспособность этого жанра, основательно продвинув его с периферии к центру, всем последующим, дескать, стало легко. Действительно, «книга рассказов» как единое высказывание на пёстрые, подчас, темы утвердилась в нашей литературе приблизительно после чеховских «Хмурых людей» – так же, как понятие «книга стихов» – после «Сумерек» Евг. Боратынского. Но «легко»-то не всегда. Сегодня, как известно, издать роман средней руки куда проще, чем книгу рассказов. Для восприятия рассказов требуется повышенная читательская квалификация, готовность к концентрации умственно-сердечного внимания – почти как для хороших стихов. И издательства боятся рисковать. Иногда авторы, идя в обход предубеждений, называют свои собрания «романами в рассказах», иногда, подобно многим стихотворцам, выпускают книги рассказов за свой счёт или за счёт спонсоров. Тем скорей мне хочется уведомить любителей жанра, что 2017 год отмечен отличными книгами рассказов. По крайней мере, двумя именами, из тех, что мне попались. Галина Корнилова выпустила  книгу «Трава» в издательстве «Ключ-С». Она пишет и пьесы, и вещи для детей, но лаконичная, взыскующая чтения на одном вдохе, новелла – её фирменное изделие ещё со времени звонкого дебюта в достопамятных «Тарусских страницах». Для нынешней «Травы» отобраны новеллы разной (не проставленной) датировки, но сплошь безупречные. Корнилова – автор лирический без слащавости, едкий без угрюмства (чего стоит её забавный фарс, «снижающий» знаменитый фильм Говорухина «Ворошиловский стрелок»!), автор фантазийный, но не балующий чудесами, а в мысленном эксперименте допускающий их как противоядие от унылого рационализма («Дорога никуда»). Любующийся резко индивидуальным в человеке (в близких, в отшедших, просто во встречных) и вместе с тем почти растворяющий человеческое в молчаливой роскоши растительного царства – «травы». Притом зорко оценивающий так называемую постсовременность – на городской ли магистрали, в присутственном ли месте, с их топографией тупикового лабиринта и запашком абсурда. Но едва ли не лучшее – это слог. Писательница расставляет во фразе общие всем, не забывшим русскую речь, слова совершенно просто и как бы безыскусно, но чудится, что они впервые нашли свои настоящие, дожидавшиеся их места – и несуетно этому рады.
книгу «Трава» в издательстве «Ключ-С». Она пишет и пьесы, и вещи для детей, но лаконичная, взыскующая чтения на одном вдохе, новелла – её фирменное изделие ещё со времени звонкого дебюта в достопамятных «Тарусских страницах». Для нынешней «Травы» отобраны новеллы разной (не проставленной) датировки, но сплошь безупречные. Корнилова – автор лирический без слащавости, едкий без угрюмства (чего стоит её забавный фарс, «снижающий» знаменитый фильм Говорухина «Ворошиловский стрелок»!), автор фантазийный, но не балующий чудесами, а в мысленном эксперименте допускающий их как противоядие от унылого рационализма («Дорога никуда»). Любующийся резко индивидуальным в человеке (в близких, в отшедших, просто во встречных) и вместе с тем почти растворяющий человеческое в молчаливой роскоши растительного царства – «травы». Притом зорко оценивающий так называемую постсовременность – на городской ли магистрали, в присутственном ли месте, с их топографией тупикового лабиринта и запашком абсурда. Но едва ли не лучшее – это слог. Писательница расставляет во фразе общие всем, не забывшим русскую речь, слова совершенно просто и как бы безыскусно, но чудится, что они впервые нашли свои настоящие, дожидавшиеся их места – и несуетно этому рады.
Я, в свою очередь, рада тому, что лучший, на мой взгляд, бытописатель современности, «реалист на подножном корму» (придаю этой формуле комплиментарный смысл, ибо любители эфемерной диеты никуда на таковой не взлетят), короче говоря – плодовитый прозаик Роман Сенчин нынче, на фоне успешного романа «Елтышевы» и менее убедительных проб в большой форме, ощутил себя преимущественно рассказчиком – от этюда до «быстрой» повести. (Новейший его роман «Дождь в Париже», публикуемый издательством «АСТ», полагаю, почти никем ещё не читан, но, судя по аннотации в «РГ» от 9 ноября, автор в нём возвращается к слегка завуалированному автобиографизму). В 2016-м у Сенчина  вышел в издательстве «Э» объемистый сборник «Напрямик», в году нынешнем – книга «Срыв» («АСТ»), куда, наряду с переизданием «Елтышевых», включено более десятка рассказов, и в них отдана дань родным тувинским местам; наконец, визитной карточкой Сенчина-новеллиста можно счесть «Постоянное напряжение» (опять-таки в «Э», 2017). Сенчин, со времени первых новеллистических опытов – «Афинских ночей», много кем побывав, много чего навидавшись и немало чего надумав насчёт страны России, наконец, научился отрывать этот бесценный опыт от т.н. Ich-Erzahlung, в чём ему особенно помогло возвращение к малым формам. Он, не на шутку следуя Чехову, хотел бы, кажется, перебрать всю русскую жизнь по человечку: по – не часто замечаемым лицом к лицу – охраннику в ресторане, продавщице в людной лавке, женщине в комнате для свиданий с мужем-уголовником, провинциальному учителю-духовику в музыкальной школе, матери-одиночке, пускающейся наугад в путь, чтобы пристроиться к мужику, согласному на подругу с «довеском», маргиналу, живущему круглый год на сдачу внаём летней хибары у моря… Сенчин – один из лучших диагностов русского бытования, и диагнозы эти чётко названы: «постоянное напряжение», перемежающееся то одним, то другим «срывом». Он писатель социальный, пожалуй, что и социально-политический (если вспомнить рассказ о даме в высоком чиновничьем кресле – «Регион деятельности»), и психолог людской подноготной (страшная, как чеховское «В овраге», «Косьба» и написанный на филигранных четверть-тонах «Сугроб»), и антрополог-экзистенциалист («Зима», где выведен наружу доподлинно сатанинский смысл тоски-скуки – духовной болезни). Сенчина, отпугивающего незамысловатым, будто бы, аскетизмом письма, критике пора заметить неспешно, – вплотную приблизившись к его смысловому объёму. Не знаю, удастся ли это осуществить мне…
вышел в издательстве «Э» объемистый сборник «Напрямик», в году нынешнем – книга «Срыв» («АСТ»), куда, наряду с переизданием «Елтышевых», включено более десятка рассказов, и в них отдана дань родным тувинским местам; наконец, визитной карточкой Сенчина-новеллиста можно счесть «Постоянное напряжение» (опять-таки в «Э», 2017). Сенчин, со времени первых новеллистических опытов – «Афинских ночей», много кем побывав, много чего навидавшись и немало чего надумав насчёт страны России, наконец, научился отрывать этот бесценный опыт от т.н. Ich-Erzahlung, в чём ему особенно помогло возвращение к малым формам. Он, не на шутку следуя Чехову, хотел бы, кажется, перебрать всю русскую жизнь по человечку: по – не часто замечаемым лицом к лицу – охраннику в ресторане, продавщице в людной лавке, женщине в комнате для свиданий с мужем-уголовником, провинциальному учителю-духовику в музыкальной школе, матери-одиночке, пускающейся наугад в путь, чтобы пристроиться к мужику, согласному на подругу с «довеском», маргиналу, живущему круглый год на сдачу внаём летней хибары у моря… Сенчин – один из лучших диагностов русского бытования, и диагнозы эти чётко названы: «постоянное напряжение», перемежающееся то одним, то другим «срывом». Он писатель социальный, пожалуй, что и социально-политический (если вспомнить рассказ о даме в высоком чиновничьем кресле – «Регион деятельности»), и психолог людской подноготной (страшная, как чеховское «В овраге», «Косьба» и написанный на филигранных четверть-тонах «Сугроб»), и антрополог-экзистенциалист («Зима», где выведен наружу доподлинно сатанинский смысл тоски-скуки – духовной болезни). Сенчина, отпугивающего незамысловатым, будто бы, аскетизмом письма, критике пора заметить неспешно, – вплотную приблизившись к его смысловому объёму. Не знаю, удастся ли это осуществить мне…
II.
Поэзия
Не раз и не без назойливости повторялось, что на сегодня проза у нас в некой оторопи, зато расцвет поэзии небывалый: разнообразие, дерзость, соревнование поколений. Мне, возможно, от недостаточной начитанности, из-за случайных непопаданий, всё видится обратным образом. Журнальные подборки стихов не оставляют резкой борозды, даже если отдельные «пиесы» останавливают внимание; серийные выпуски «новой поэзии» порой отпугивают. В поэтической критике благорастворение воздухов нарушила взрывная статья Евгения Коновалова «Двуликий Янус суггестивной поэзии», в которой сказано то, что мне давно хотелось услышать ради проверки собственных впечатлений. Сразу сделаю оговорки. Во-первых, мне жаль, что для уколов критической рапирой здесь использован термин, утверждённый именно «Поэтическим словарём» А.П. Квятковского (а статью «Суггестивная лирика» автор словаря писал в живейшем сотрудничестве со мной, и мы увлечённо спорили о выборе иллюстраций к ней). Так вот, «суггестия» – это внушение, это, простите за опошленное слово, – «чара», и Мандельштам (не чаровник, а «смысловик», задающий ассоциативно-метафорические загадки, наподобие древних скальдов) не годится в отцы ни истинной суггестии (возможность которой Коновалов признаёт), ни суггестии мнимой, ставшей мишенью критика. Нарочитый иррационализм, исходящий обыкновенно из простейшей рациональной посылки, но обёрнутой коконом заморочек, агрессивно направленных на умственный аппарат читателя, – это не «суггестия», а, как сказано в одной несправедливой, но смешной эпиграмме, – «ты – другое». Неповинного термина жаль, а другого не подберу. Ну и, во-вторых, заступлюсь за alma mater: «Новый мир» – вовсе не стахановец в том тренде, который выявил в своем аналитическом памфлете Коновалов. Вот, навскидку: «тончайшая грань бытия, / за которою пимпа / да милое масло сардин / да холод нещастий/ / да господи ты ли не бог / тебе ли я буду» («Знамя», 2017, № 12). Прости, Господи (ты ли не Бог?), такого добра и в самом «Арионе» наберётся сколь угодно. Тренд есть тренд. Суть в том, что самая стесненная форма художественной речи (за «искусственность» её, как помните, корил опрощенец Лев Толстой!) пожелала стать внешне самой свободной, не довольствуясь внутренней свободой, то бишь гармонией, – и заявленная свобода эта – самоубийственна (один из парадоксов свободы, приложимый ко многим другим казусам). Что Коновалов отлично демонстрирует.
Мне остаётся назвать две оказавшиеся под рукой книги года, которые не разрушили мою веру в поэзию. У Константина Кравцова вышло в «Русском Гулливере» отчётное, что называется, собрание стихов: «Арктический лён» https://www.ozon.ru/context/detail/id/140807785/ – избранное из того, что было написано еще до принятия иерейского сана, и избранное из воспоследовавшего. «Узкий путь и другой – тоже узкий./ И один из них входит в другой / Как меч в ножны…». «Священник-поэт» (название стихотворения, откуда цитата) понимает, что тесные врата спасительны не только для Души, но и для Музы. Поэтика о. Кравцова – сложная, требующая от читателя переключения с регистра на регистр, от лирических мгновений к мифологемам и философемам, даже к новинкам интеллектуальной моды. Но – никакой расхлябанности. Ответственность за каждое слово, словно за «меч обоюдоострый» Писания, прочит читателю и «узкий путь» труда над столбиками строк, и то, что труд этот не окажется напрасным. «Арктический лён» я ещё только осваиваю и расставаться с ним не спешу.
 Зато новую книгу стихов Олеси Николаевой «Средиземноморские песни, среднерусские плачи» (М., ОГИ) https://www.labirint.ru/books/624426/ перечитываю чуть ли не ежедневно. В ней узнаются и прежняя изощрённо-воздушная стихотворная техника этого поэта, и зоркость земного зрения, преломленного линзой притчи, и вкус к аутопсии современного человека, – и тем не менее атмосферически автор в ней неузнаваем! Вспоминается слово Блока «Гамаюн – птица вещая». Если то, что обнаруживает Олеся Николаева на всех этажах нынешнего бытия, действительно зримо ею, а не чудится, то ждут нас времена душеиспытующие, душеопасные. Ключ подобрать к этой книге трудно, я оставлю читателя при загадке. Одно режет со страниц глаза: старость, даже дряхлость мирового эона, в котором выпало нам жить, сопутствуемая недостойным, а то и непристойным ряженьем, жирным сценическим гримом – от суперрасцветки столичных улиц до подмалёвки собственных душ. Резко стилизованные фольклорные мотивы своим невнятным трагизмом не столько противостоят этой масочности, сколько усиливают чувство тревоги, проникшее внутрь человека третьего тысячелетия сквозь услужливые драпировки повседневности. И – достигшее нутра самого поэта, хотя книга скорее эпична, чем лирична. В этих бесслёзных «плачах» есть разъедающая сила горького снадобья, к которому тянет прибегать ещё и ещё…
Зато новую книгу стихов Олеси Николаевой «Средиземноморские песни, среднерусские плачи» (М., ОГИ) https://www.labirint.ru/books/624426/ перечитываю чуть ли не ежедневно. В ней узнаются и прежняя изощрённо-воздушная стихотворная техника этого поэта, и зоркость земного зрения, преломленного линзой притчи, и вкус к аутопсии современного человека, – и тем не менее атмосферически автор в ней неузнаваем! Вспоминается слово Блока «Гамаюн – птица вещая». Если то, что обнаруживает Олеся Николаева на всех этажах нынешнего бытия, действительно зримо ею, а не чудится, то ждут нас времена душеиспытующие, душеопасные. Ключ подобрать к этой книге трудно, я оставлю читателя при загадке. Одно режет со страниц глаза: старость, даже дряхлость мирового эона, в котором выпало нам жить, сопутствуемая недостойным, а то и непристойным ряженьем, жирным сценическим гримом – от суперрасцветки столичных улиц до подмалёвки собственных душ. Резко стилизованные фольклорные мотивы своим невнятным трагизмом не столько противостоят этой масочности, сколько усиливают чувство тревоги, проникшее внутрь человека третьего тысячелетия сквозь услужливые драпировки повседневности. И – достигшее нутра самого поэта, хотя книга скорее эпична, чем лирична. В этих бесслёзных «плачах» есть разъедающая сила горького снадобья, к которому тянет прибегать ещё и ещё…
III
Нон-фикшн
Из необъятного моря нонфикшн, захлёстывающего наши книжные ярмарки, я выделю всего две книги, поскольку доступ к ним не так уж прост. Обращу внимание на историографическо-просветительскую деятельность церковного писателя Павла Проценко. Следуя путями гонимой с пореволюционных лет Русской Церкви, её миссионеров и мучеников, в особенности её неконформной катакомбной части, этот автор уже в целой серии книг создаёт, по меткому отклику М. Ю. Эдельштейна, жизнеописания не столько её «генералов», сколько «солдат». И такому воину, киевлянину-священнику, посвящен почти 800-страничный том нынешнего года: «П а в е л П р о ц е н к о. К незакатному Свету. Анатолий Жураковский: пастырь, поэт, мученик. 1897 – 1937», – изданный Свято-Тихоновским православным университетом совместно с «Эксмо». Тираж по нашим временам не так уж мал – 2500 экз.; но богато иллюстрированная фотодокументами толстенная книга порядком недешева. В качестве предварительного знакомства с этим жизнеописанием-житием, полным психологической и событийной героики, отсылаю к проницательному рецензионному отзыву Марианны Ионовой http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2017_11/Content/Publication6_6773/Default.aspx («Новый мир», 2017, № 11), надеясь, что он приохотит к поискам и приобретению первоисточника.
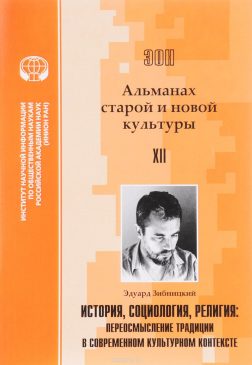 Ещё меньше на виду чреватое интеллектуальными открытиями собрание статей Эдуарда Зибницкого «История, социология, религия: переосмысление традиции в современном культурном контексте»; оно занимает ХII вып. «Эона» – «Альманаха старой и новой культуры», редактируемого Р.А. Гальцевой в рамках изданий не погибшего в пожаре ИНИОНа РАН. Талант автора, культуролога и публициста (проживавшего в Пскове, а ныне перебравшегося в Канаду), был замечен после первых же проб, и его дебют без промедления напечатал ныне покойный Н. А. Струве в своём «Вестнике РСХД». Диапазон резко проблематизируемых автором тем очень широк: от трактовки монархического принципа власти в его позитивной связи с правами и свободами современного гражданина до вероучительных парадоксов у нынешних церковных идеологов; наряду с этим – штудии сугубо культурфилософского и литературно-философского характера: о социологической подкладке сочинений Юрия Олеши, о рецепции Толкина в нашем культурном сообществе; наконец, с широким захватом эпохи, – оригинальное постижение «путей романтизма в России». Автор – по природе своей полемист, и способен разжечь животрепещущую полемику. Тем, в особенности, и ценен.
Ещё меньше на виду чреватое интеллектуальными открытиями собрание статей Эдуарда Зибницкого «История, социология, религия: переосмысление традиции в современном культурном контексте»; оно занимает ХII вып. «Эона» – «Альманаха старой и новой культуры», редактируемого Р.А. Гальцевой в рамках изданий не погибшего в пожаре ИНИОНа РАН. Талант автора, культуролога и публициста (проживавшего в Пскове, а ныне перебравшегося в Канаду), был замечен после первых же проб, и его дебют без промедления напечатал ныне покойный Н. А. Струве в своём «Вестнике РСХД». Диапазон резко проблематизируемых автором тем очень широк: от трактовки монархического принципа власти в его позитивной связи с правами и свободами современного гражданина до вероучительных парадоксов у нынешних церковных идеологов; наряду с этим – штудии сугубо культурфилософского и литературно-философского характера: о социологической подкладке сочинений Юрия Олеши, о рецепции Толкина в нашем культурном сообществе; наконец, с широким захватом эпохи, – оригинальное постижение «путей романтизма в России». Автор – по природе своей полемист, и способен разжечь животрепещущую полемику. Тем, в особенности, и ценен.
Напоследок. В минувшем году (увы, как и в непосредственно ему предшествующих) наша наука о слове (филология, история литературы) понесла драматические персональные потери: с нами нет уже Сергея Бочарова, Вячеслава Вс. Иванова, Валентина Хализева, Инны Альми, Андрея Зализняка… А незадолго до их ухода, с участием некоторых из них, велась жёсткая дискуссия о кризисе в литературоведении, о неплодотворных эксцессах интертекстуальности и подобных мод, охотно цитировалось знаменитое мандельштамовское «пся крев»… И однако ж. Дивишься, сколько эвристически ценного, концептуально неоспоримого вновь и вновь прорастает на этом как бы поредевшем поле. Я назову три примера, совершенно друг с другом несхожих – ни по объектам изучения, ни по индивидуальностям исследователей, ни по жанрам исполненной работы – а между тем образующих (вдруг не случайно?) некую общность филологического поиска. Эта общность состоит в намерении проникнуть во внутреннюю, подчас даже утаённую биографию художника, в область жизненных стимулов и их отдаленных творческих результатов – между тем как относительно изученная внешне-событийная канва жизнеописания не даёт очевидных наводок на сокровенное. Так, пока Павел Нерлер писал и пишет календарную биографию Осипа Мандельштама, каким-то чудом реконструируя едва ли не каждый прожитый день, Ирина Сурат уже и в ряде книг, но ещё энергичнее – в текущих одна за другой журнальных публикациях создаёт внутреннюю биографию поэта (конечно, опираясь на весь возможный объём документированного материала). Особенно поразителен очерк «”Я говорю за всех”. К истории антисталинской инвективы Осипа Мандельштама» («Знамя», № 11). Таинственная и запутанная история этого героико-самоубийственного поступка высвечивается в новом повороте, когда в «интригу» вводится фактор дружбы О.Э. с биологом Борисом Кузиным и их интеллектуальная перекличка.
А вот: целая эпоха духовного бытия поэта, упрятанная в слова стиха (сказать: «зашифрованная» – чересчур рационалистично), выявлена изощрённым анализом Веры Зубаревой, автора монографии «Тайнопись. Библейский контекст в поэзии Беллы Ахмадулиной 1980-х – 2000-х годов» (М., «Языки славянской культуры: Глобал Ком»). Связь между автором и изначально избранным для «пристального чтения» поэтом – особого рода: Ахмадулина благословила в своё время поэтический дебют Зубаревой, и впоследствии между ними установилось понимание «поверх барьеров», взаимное «чтение в сердцах», о чем свидетельствуют и три эссе об их встречах, прилагаемые к монографии. «Неизречённый реализм» – таким оборотом автор определяет возгонку поэтом ввысь отнюдь не пренебрегаемых им примет и лиц земного бытия, их неявное, таинственное узрение в свете вышнего Присутствия. При этом не забыто ещё одно, так сказать, промежуточное светило: с досконально конкретизируемыми библейскими контекстами соседствует виртуозное обнаружение у Беллы аллюзий на поэтическую речь Пушкина – несравненного по яркости «Сириуса» на небе русского слова.
И ещё один удивительный опыт «внутренней биографии». Прозаик, поэт и литературовед, новгородец Владимир Холкин, многое уже сделавший для изучения прозы И.А. Гончарова, для нетривиального подхода к её типажам, нашел неожиданный путь к сердцу этого «уравновешенного» и «объективного» классического повествователя. В пространной работе «Долгая память чувства: “Мильон терзаний” и “Обрыв”» («Вопросы литературы», июль – август) он прочитывает и между строк очерка о драме Чацкого, и в незадавшейся жизненной роли Райского, и наконец не «между», а «сквозь» строки переписки Гончарова с Елизаветой Васильевной Толстой грустный жизненный сюжет безнадёжной любви писателя к женщине, которая могла предложить ему не более, чем дружбу. Работа В.И. Холкина публикуется под грифом «Гипотеза», и этим словом он её характеризует сам, но текстуальные параллели и психологические заметы настолько убедительны, что я бы не побоялась возвести её в ранг открытия. Добавим к этому чрезвычайно удачное определение художественного метода Гончарова: «созерцательное понимание».
Завершая это подобие обзора, повторюсь: «слона» семнадцатого года я, возможно, не приметила и с сокрушением узнаю о нём из других публикуемых перечней; но тешу себя надеждой, что опознала как приметную находку нечто, не бросившееся в глаза соседям по цеху.




