Василий Геронимус
Литературный критик, филолог. Член Российского союза профессиональных литераторов (РСПЛ), кандидат филологических наук, старший научный сотрудник ГИЛМЗ (Государственный историко-литературный музей заповедник А.С. Пушкина).
ПОЭЗИЯ ВСЁ-ТАКИ ПОЗНАВАЕМА
(О книге: Ульяна Верина. Обновление жанровой системы русской поэзии рубежа XX—XXI вв. – Минск: БГУ, 2017)
I. Постановка вопроса и семиотическое поле современной поэзии
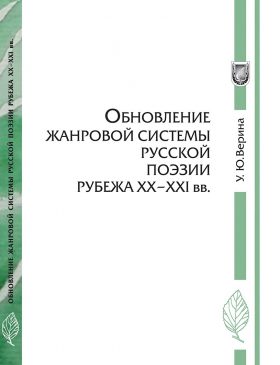 Монография Ульяны Вериной «Обновление жанровой системы русской поэзии рубежа XX-XXI вв.» являет собой поистине фундаментальный филологический труд. Автору его невозможно отказать в добросовестности, тщании, скрупулёзности, более того – в энциклопедизме, присущем здоровому университетскому дискурсу. Книгу отрадно читать, приятно взять в руки. Она – оазис на фоне скороспелой печатной продукции.
Монография Ульяны Вериной «Обновление жанровой системы русской поэзии рубежа XX-XXI вв.» являет собой поистине фундаментальный филологический труд. Автору его невозможно отказать в добросовестности, тщании, скрупулёзности, более того – в энциклопедизме, присущем здоровому университетскому дискурсу. Книгу отрадно читать, приятно взять в руки. Она – оазис на фоне скороспелой печатной продукции.
Но почему автор монографии убеждён, что русская поэзия являет собой систему, да и к тому же систему жанровую – т.е. достаточно жёсткую? Все мы знаем, что жанровый канон ко многому обязывает автора, а главное – является не индивидуальным, а нормативным и – во многих отношениях – неавторским способом организации текста. (Случайно ли слово «организация»?)
Меж тем, мы знаем, что поэты часто живут и творят без всякой организации и, главное, резко различаются между собой – т.е. не создают монолитной системы, подобной, например, Солнечной системе или системе кровообращения в организме. Так, Вознесенский, который продолжает традиции футуризма и эстетически сближается с Кедровым, предваряет особый эзотерический извод футуризма, к которому принадлежит, например, наш современник авангардист Вилли Мельников. Очевидно, что Мельников достаточно далеко ушёл не только от Пушкина, но и от Маяковского. И утверждать, будто, например, Мельников так же зависит от Пушкина, как в астрономии луна зависит от солнца, было бы, по меньшей мере, натянуто.
И всё-таки, при всём эклектичном многообразии как нынешней, так и вчерашней «литературной карты», единая система существует, поскольку существует единое эстетическое поле, пусть и разветвлённого литературного процесса, и существует единый относительно общепризнанный ряд имён, явившихся из прошлого века в качестве своего рода одушевлённых образцов творчества. Известный филолог Максим Шапиро, немножко ехидничая, в частной беседе называл означенный ряд «джентльменским набором». Признаться, даже несколько неудобно впадать в тон ликбеза и напоминать читателю, кто входит в означенный ряд: Блок, Пастернак, Мандельштам, Ахматова, Цветаева, Есенин, Маяковский. И… в означенном ряду имён принято говорить о Бродском как о «последнем поэте» или как о завершителе поэзии XX века, учитывая, что Бродский (наряду с Рейном, Бобышевым и Найманом) входил в ближайшее литературное окружение Ахматовой.
Скептик-радикал будет в состоянии тут же усомниться в том, что именно эти, а не иные имена заслуживают бесспорных лавров, будет приводить аргументы в пользу того, что де некоторые из указанных поэтов просияли чуть ли ни путём пиара (во всяком случае, путём крупного скандала), а некоторые – например, Мария Петровых, незаслуженно забыты или недооценены (хотя, ей-ей, «не хуже» Ахматовой и Цветаевой). Так не стоит ли «пересмотреть хрестоматийные представления» о русской поэзии?..
Автор рецензии на монографию Вериной, в отличие от скептика-радикала, как раз простодушно убеждён, что вышеперечисленные имена (входящие в пресловутый «набор») бессмертны, однако он убеждён также в том, что их не стоит пытаться повторить и даже идея «встать на плечи гигантам» несколько наивна, а главное – недостаточна. Условия существования современной поэзии изменились настолько радикально по сравнению с минувшим веком и даже с недавними годами, что никакие «джентльменские наборы» (пусть даже мы назовём сравнительно «поздние» имена – Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулину) не могут быть просто механическими «образцами для подражания» или даже символами новых поэтических традиций.
Что же изменилось в мире настолько, что поэзия – согласно логике Ульяны Вериной – требует радикального обновления (при всём величии классических имён, к кругу которых примыкает и вышеуказанная триада поэтов-семидесятников)? Прежде всего, станок Гуттенберга стали фактически вытеснять интернет и компьютер. Наивно думать, что сменились технические способы распространения текстов, изменилась как минимум семиотическая среда их существования, а это совсем не мало. Можем ли мы себе представить Пушкина за компьютером? Вероятно, нет – и не потому что компьютеров как технического устройства в золотом веке не существовало, а потому что лира и перо – классические атрибуты классического поэта, а интернет имеет иную природу, иную семантику (не только иные технические инструменты). В «Осени» Пушкин пишет: «И пальцы просятся к перу, перо к бумаге…». Так вот, если б пальцы поэта просились к клавиатуре (или говоря по-современному, к клаве) – это был бы уже иной художественный смысл (а не просто иной предмет литературного быта).
Не приходится и говорить о том, что вслед за изменением способа хранения или, как сейчас говорят, «запоминания» текста, параллельно означенному изменению стали радикально иными, нежели ранее взаимоотношения: книга – читатель – текст. Разумеется, в приведённый традиционный ряд, пусть и сбоку, четвёртым включается редактор, роль которого сегодня меняется, «переформатируется» (если и не вовсе исчезает) пропорционально постепенной смерти книги. Однако вопрос не только в редакторе: например, читательская среда, равная или изоморфная интернет-сообществу, не тождественна толпе в пушкинском понимании; и не надо объяснять, что в существующем контексте по-иному, нежели ранее, воспринимает поэзию и тот круг читателей, который непосредственно не приобщён к интернету (или другим современным носителям информации).
Более того, среда интернета – это смысловая среда так называемого глобализма, где (независимо от того, нравится нам это или нет) вечность и Моцарт соседствуют с рекламой мыла, а значит, меняется не только традиционная цепочка взаимоотношений – книга, читатель, текст – но меняется и смысловое поле поэзии. В первом приближении приходится говорить о том, что оно эклектично, а не едино, тогда как, например, в классическом представлении мир един, эстетическое бытие едино.
Вот почему и возникает вопрос: может ли на основании классики или (ещё лучше!) вообще без всяких оснований явиться в поэзии нечто совершенно новое?
Ульяна Верина, не ограничиваясь понятием «игры с традицией», пишет о радикальном характере этой новизны: «Литература как самодовлеющая деятельность не всегда лежит в основе возникновения новых жанровых модификаций. Об игре имеет смысл говорить лишь тогда, когда это осознанная авторская стратегия (часто в таком случае используются жанровые заглавия), настраивающая читателя на то, что произведение отталкивается от жанрового канона (традиции) – например, травестирует его. Трансформация подразумевает переход в иное качество, изменение в целом, тогда как модификация – изменение какого-либо свойства, признака, формы».
Соглашаясь с радикальным пафосом Вериной, тем не менее, хочется задать ей два уточняющих вопроса. Во-первых, почему мы говорим о трансформации существующей поэтической системы, а не о создании новой поэтической системы или систем? Во-вторых, почему речь идёт непременно о жанрах, как будто лирики вне жанров не существует? Например, В.Э. Вацуро свидетельствует о том, что канонические жанры поэзии – и не в последнюю очередь кладбищенская элегия – имеют жёсткую риторическую организацию, упорядоченную структуру. В.Э. Вацуро не усматривает её даже у Пушкина. Возражая В.Н. Топорову (который сравнивает Жуковского с Пушкиным), В.Э. Вацуро пишет: «” Кладбищенская элегия” – слишком замкнутый жанр, чтобы сама собой переродиться в иное, хотя и родственное жанровое образование» (Лирика пушкинской поры. СПб., 2002). Как видим, Вацуро подчас отрицает те жанровые мутации, о которых говорит Верина (усматривая в них признаки обновления русской поэзии).
Итак, не будет ли целесообразно заменить термин «жанр» термином «дискурс»? Всегда ли обновляется именно жанр, который во многих случаях стал историко-литературным прошлым, неким риторическим реликтом на фоне современной эклектики? В своём здоровом радикализме Ульяна Верина поневоле иногда несколько тяготится жанровыми ярлыками. Сама Верина прямо или косвенно признаёт, что появление радикально новой поэзии требует новых познавательных (и методологических) инструментов, тогда как категория жанра ультратрадиционна. Подвергая сомнению также единую системность, даже монолитность её виденья предмета, хочется параллельно отдать ей должное в одном отношении. Как бы, на первый взгляд, ни разнились между собой поэтические системы, поэтические традиции или целые литературные эпохи, пииты (по выражению Пушкина) всё-таки сосуществуют в одном подлунном мире. Пригов и Гомер родились на одной Земле – и это обстоятельство невозможно игнорировать, несмотря на то, что утверждения, будто Пригов продолжает (или, наоборот, преодолевает) Гомера были бы просто абсурдны, учитывая колоссальную разницу литературных эпох. В некоем глобальном смысле Верина права: единства вселенной не может разрушить даже компьютер.
Более того, при всей нынешней эклектике, невозможно отрицать того, что различные социальные, социокультурные, семиотические дискурсы всё равно обслуживают единую (и в этом смысле монолитную) силу, а именно – силу поэтического слова. Оно выживает только тогда, когда неважно, каково фоновое окружение поэтического текста – нацарапан ли он по пьяни на обоях или помещён в увесистой антологии (ибо есть нечто неизмеримо большее, чем обои или полиграфический факт книги). Поэтическое слово как абсолютная величина не меняется в зависимости от социального или семиотического фона, и, например, компьютер, вытесняющий книгу, не опрокидывает ситуацию целиком, а создаёт лишь радикально новые семиотические условия для бытования поэзии, меж тем как её изначальное существо остаётся онтологически едино.
Подтверждением тому является несколько парадоксальная преемственность между лирой – музыкальным инструментом – и лирикой как фактом текста, читаемого глазами (а не ухом). Между тем, едва ли мы будем правы, если примемся утверждать, будто этимологическая апелляция к лире – т.е. к источнику звука – в данном случае лишь метафора (или просто красивое выражение). Существо лирики заключается не в фонике и не в печатном тексте, а в чём-то неуловимо третьем, а именно в том единственном, что отличает, например, сладостного Архилоха от подслеповатого Гомера, величавого эпика. Если дело обстоит так и если лирика имеет одно существо, которое не особо зависит от смены устной (древней) поэзии поэзией печатной (т.е. поэзии нового времени), то и нынешняя эпоха, эпоха компьютера (новейшее время) по большому счёту ничего не решает, и вообще все поэты всех времён заняты приблизительно одним кругом тем – таких, как, например, любовь или смерть. Хочется спросить вместе с Пастернаком: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?» Вот почему стремление Вериной увидеть в современной поэзии трансформацию некоего единого мирового органона по-своему мотивировано (несмотря на все попытки рецензента расчленить и разграничить различные звенья и фазы литературного процесса).
Глубинно мотивировано и то, что Верина ставит вопрос о неотъемлемой загадке всякой лирики. В самом деле, почему произведения, которые не имеют гомеровского размаха и масштаба, которые не претендуют на историческую глобальность, по-своему более пленительны и, кто знает, быть может, более глубоки, чем эпические глыбы? На современном литературном сленге создавать пленительные микротексты – называется «тюкать», а создавать глыбы – называется «ваять нетленки». Почему же «тюкать» по-своему более высокое занятие, нежели творить величественный эпос? Монография Ульяны Вериной помогает приблизиться к ответу.
Чрезвычайно ценен в книге монографический обзор различных теорий лирики. Автору остаётся пожелать лишь одного: чуть более ясного и последовательного разграничения философского и филологического понимания предмета (или дискурса). В самом деле, своего рода путаница в вопросе о лирике, загадка, которую человечество до сих пор не разрешило, помимо множества иных обстоятельств вызвана к жизни ещё и тем, что учение о лирике исходно разрабатывали философы – например, Гегель, тогда как в цеховых параметрах филологии предмет неизбежно будет выглядеть по-иному. В означенном смысле будет, по-видимому, плодотворна некоторая модернизация дискуссии о лирике, которая поведёт от смысла как такового (вообще от философского инструментария) к дискурсу (и вообще к филологическому инструментарию). В самом деле, традиционное гегелевское определение лирики как литературной проекции частной жизни и частных переживаний в их противоположности крупным событиям и явлениям Истории сейчас может выглядеть философски спекулятивным и недостаточным.
II. Исторические зигзаги отечественной поэзии XIX-XX вв. Малое и крупное в лирике
Говоря о судьбах отечественной поэзии, Верина остроумно и тонко противопоставляет минимализм Мандельштама, наделённый признаками осколочной эстетики, эпическому гигантизму и монументальной героике советского времени. «Всё большое далёко развеять», – писал Мандельштам.
С глубоким знанием дела автор монографии пишет о том, что советская героика порождает своеобразную литературную моду на поэму, крупную форму, которой соответствует рассказ о героических буднях, о производственных или воинских подвигах советского человека. Поэме как эпическому феномену, согласно проницательным наблюдениям Вериной, омонимична (и внутренне противоположна) крупная лирическая форма у Бродского, которая как бы дополняет вечные архаические «да» и «нет» множественными оттенками и нюансами смысла (они-то и порождают поэтически обаятельные длинноты). Верина остроумно и проницательно замечает, что в своём внутреннем противостоянии советской героике, советскому эпосу, Бродский реанимирует (или возрождает) те жанровые единицы лирики, которые были фактически изжиты в советский период. Однако – убедительно уточняет Верина – жанровое мышление у Бродского немыслимо без современной мутации классических жанров, без игры с жанровой нормой.
Далее Ульяна Верина по существу возводит к Бродскому два взаимно контрастные явления более поздней поэзии – прежде всего, Аркадия Драгомощенко и Марию Степанову. Если Степановой, по логике Вериной, присущ традиционализм (хотя в то же время игра с традицией), то Драгомощенко, напротив, присуща крайняя самобытность и свобода от всех школьных правил – даже от правил верлибра. Верина акцентирует чрезвычайно длинные строки Драгомощенко и его иногда парадоксальные поэтические медитации, в смысловое поле которых вовлечены многоразличные, в том числе научные предметы – которыми традиционная поэзия не занимается (так, во всяком случае, полагает автор монографии).
Говоря о Драгомощенко , Верина себе несколько противоречит. Учитывая скрытую и явную преемственность между Бродским и Драгомощенко, которую, по меньшей мере, допускает Верина, тяготение Драгомощенко к длинным строкам, синтаксическим периодам, а также медитативное начало у Драгомощенко – едва ли всё это будет признаком какой-то безусловной новизны (несмотря на то, что формально Драгомощенко отказывается как от традиционной метрики, так и от верлибра). Тем не менее, соседство с Бродским, параллель с Бродским указывают как раз на архаический «вектор» стихов Драгомощенко. Долгие медитации в стихах известны у нас со времён Кантемира (неслучайно у Бродского имеются «Подражания сатирам, сочинённым Кантемиром»), вовлечение в поэзию научных (и отчасти философских) предметов известно у нас со времён Ломоносова, который, как известно, не был цеховым литератором (но был учёным-универсалом). Наконец, многофигурные (и строфически объёмные) лирические композиции встречаются у Пушкина («Воспоминания в Царском селе», «19 октября» и др.). Пушкин воспитывался и рос в той литературной культуре, в которой монументальное начало всё ещё было отчасти приоритетно по отношению к лирическим мелочам или, говоря языком той далёкой эпохи, безделкам. Мнимоэпические длинные тексты Пушкина-лирика – это дань традиции прошлого и, выражаясь языком самого Пушкина, честь классицизму. Вообще поэтическая космология (в том числе, наукообразная) была в XVIII веке чрезвычайно популярна и не совсем исчезла даже в камерной (или альбомной) пушкинской эстетике. Словом, всё, что Верина связывает с современностью Драгомощенко, как раз достаточно архаично. Подтверждается пословица: «Новое – хорошо забытое старое».
Меж тем Верина, стараясь противопоставить друг другу поэтов разных эпох, прибегает к статистическим таблицам, которые указывают на различные протяжённости стихотворений. Едва ли такой – табличный – метод является вполне плодотворным: он не вполне описывает художественную реальность приблизительно потому же, почему, например, высокий рост человека не означает непременно его высоких мыслей. Впрочем, даже на статистическом уровне всё то, что Верина усматривает у Драгомощенко, можно найти у Кантемира или Державина. Наряду с табличными данными Верина акцентирует «длинный» верлибр у Драгомощенко как признак новизны. Он, конечно, вызывающе современен – но современен не в первую очередь по тем признакам, которые акцентирует Верина.
Автор остроумно и убедительно утверждает, что если Драгомощенко радикально ни на кого не похож (или стремится быть ни на кого не похожим), то Степанова остаётся в параметрах старомодного нормативизма, однако занимаясь игровыми перифразами или своего рода коррекциями общепризнанной классики. В данном случае Верина исходит не из произведений, а из текстов Степановой, из которых действительно можно при желании во множестве извлечь, «выудить» узнаваемые цитаты из классики и аллюзии на классику. Однако же если произведение не есть просто текстуальная последовательность неких элементарных высказываний, тогда отношение к тому, что в общепринятом смысле эстетически свято (и по-своему непререкаемо) как к объекту игры означает радикально новый (может быть, полемический) взгляд на литературную классику. О нём-то Верина и не пишет, ограничиваясь анализом переиначенных цитат из классики и неких намеренных неправильностей у Степановой. И всё же нарушение правила (в том числе языкового, а не только литературного – например, «птиц» вместо «птица» у Степановой), нарушение, которое контрастно подчёркивает правило или норму – вероятно, не единственная авторская интенция Степановой. Ответ на вопрос о том, что её побуждает в известном смысле превращать поэзию в игру, остаётся неизвестным из монографии.
Продолжая анализ крупной лирической формы, а главное – анализ природы и границ лирики, границ, которые отделяют её от эпоса, Верина ставит вопрос о лирическом сюжете, вполне основательно признавая сюжетным жанром лирики балладу. Она производит остроумный и обстоятельный анализ баллад от пушкинского времени до нынешних дней. Так, в смысловом поле рассуждений Вериной является анализ поэтического цикла Сергея Михайлова «Новые песни западных славян». Автор монографии убедительно показывает, как пародия на классику (в тыняновском смысле слова) у Михайлова и других современных авторов сочетается с признаками «нового эпоса», как игра с классикой, игра с традицией у ряда современных авторов современных баллад сопровождается трагизмом в отображении современных событий.
Однако же, при всей историко-литературной полноте анализа баллады и смежных с балладой лирических форм, при всём остроумии и глубине параллелей классики с современностью, в анализе лирического сюжета у Вериной не хватает прояснения самой категории сюжета, прояснения исходного понятия, которым пользуется автор. Оное понятие у Вериной не вполне разработано, что подчас приводит к досадным недоумениям.
Можем ли мы говорить, что жанровым средоточием сюжетного начала в лирике является баллада? или сюжет в лирике живёт вне жанра? Например, строки Пушкина «Я вас любил…» или «Передо мной явилась ты…» описывают некие исключительно значимые лирические события и в этом смысле являются малыми сюжетами, хотя не имеют никакого отношения к балладе. И тогда становится не совсем понятно, что такое лирический сюжет вообще, как его определять, какими единицами его мерить. Дело в том, что категории сюжета сопутствуют по сути своей не филологические категории действия, события и ситуации. Исходно они – суть величины философской психологии.
В принципе попытки Вериной увидеть в современной лирике сюжет (т.е. по сути своей архаическую структуру, родственную эпосу) филологически плодотворны, однако им не хватает некоего смыслового фундамента; они опираются на диффузное философско-психологическое поле сюжета в лирике, а не на природу текста как такового, не на конкретные категории текста. В современной филологии встречается термин «семантический сюжет», однако Верина, рассуждая о жанрах поэзии, движется подчёркнуто традиционным, несколько даже консервативным путём. Кроме того, баллада как сюжетный жанр лирики неизбежно граничит с городским или жестоким романсом (ноты жестокого романса потенциально возникают там, где речь идёт о бытовом трагизме, о некоем повседневном ужасе), однако вопрос о неизбежной смежности баллады и романса как сюжетных жанров Верина специально не ставит, что несколько сужает круг предметов разговора, при всей значимости книги. Попытка свести многие сюжетные явления современной лирики к балладе видится рецензенту несколько догматичной (при всех ярко позитивных сторонах книги).
III. Сверхтекстовые единства в книге Ульяны Вериной
Очевидно, что сюжет – не вербальная категория. Поэтому к анализу лирического сюжета у Вериной примыкает то, что автор монографии обозначает в качестве сверхтекстовых единств, будь то цикл, книга или коллективный сборник.
История поэтической книги как феномена дана в рецензируемой книге с монографической полнотой (чтобы не сказать – исчерпанностью). Однако с концептуальной стороной анализа поэтической книги у Вериной трудно безоговорочно согласиться – и вот почему: книга как материальный предмет и даже как контекстуальное поле лирики с её трепетными микротекстами едва ли является определяющим началом или центральным источником артефакта. Дело в том, что книга как вещь всё-таки побочна по отношению к корпусу поэтических текстов; книга как концептуальное единство или смысловое поле ряда лирических произведений воздействует на читателя всё-таки не цветом обложки, качеством полиграфии и другими внеязыковыми факторами, а характером авторского языка. Он живёт преимущественно в конкретных произведениях и буквально – в текстах. Например, в поэтической книге Цветаевой «Лебединый стан» (едва ли единственная книга, которую Верина последовательно не упоминает) белое и красное движение толкуется как белое и чёрное движение (со всеми отрицательными метафизическими коннотациями чёрного). Так вот, означенные полюса чёрного и белого буквально оживают, становятся заметными и симптоматичными лишь в конкретных стихотворениях книги, вне которых они всё-таки остаются логической абстракцией. В семиотическом смысле (если книга строится как концептуальное единство различных текстов) мы имеем дело с авторским идиолектом – т.е. с таким образованием, которое в соссюровском смысле не является ни языком, ни речью. Перед нами как бы малый язык, созданный автором, устойчиво не закреплённый в словарях и в этом смысле сохраняющий отчётливые признаки речи. В книге является нечто гибридное, нечто среднее между языком и речью – т.е. авторский идиолект. Очевидно, что в отдельных стихотворениях он проявляется более полно, нежели в книге, которая отождествима не столько с художественным целым, сколько с языковым полем различных произведений, но книга как таковая не становится в итоге художественным произведением.
Верина с вызывающей уважение тщательностью пишет и о таких книгах, которые были задуманы как единство текстов, а не складывались из текстов, написанных в разное время, с разным настроением и по разному поводу. Автор указывает на «Столбцы» Заболоцкого, которые были изначально задуманы в качестве книги, а не собраны в книгу постфактум. Понятно, что философская сторона книги как целого раскрывается в отдельных произведениях – иначе по аналогии пришлось бы утверждать, что книга, где собраны диалоги Платона, больше отдельных диалогов. Такое высказывание было бы в лучшем случае тавтологическим, ибо целое – как бы уважительно мы к нему не относились – всё равно складывается из частей и, если речь идёт о лирике, наиболее полно проявляется в малом.
Иначе говоря, книга стихов как концептуальное единство – это вербальный феномен, который наиболее полно проявляется в отдельных произведениях и – вопреки дефинициям Вериной – едва ли книга стихов может быть собственно художественным произведением. Иначе пришлось бы отрицать вербальную природу поэзии…
Попытка Вериной увидеть в книге стихов самостоятельное произведение едва ли видится рецензенту вполне убедительной, и всё же она интересна и плодотворна в том особом смысле, который в монографии не затрагивается. Речь идёт не о формально-семиотической, а об эстетически сакральной природе книги, о том, о чём писали Цветаева и Пастернак. Цветаева: «Книгу памяти на людских устах не вотще листав…»; Пастернак: «Мне в ненастье мерещится книга о земле и её красоте…». Исходя из высокой идеи книги, можно было бы, как видится рецензенту, угадать новые грани в поэзии XX, а может быть, и XXI века, тогда как книга в её конкретно земном, полиграфическом качестве или даже книга в концептуальном смысле едва ли являет собой полноценный лирический феномен.
Среди сверхтекстовых единств в монографии анализируется не только феномен книги, но также ряд стихотворений Вениамина Блаженного, посвящённых смерти поэта – трагическому мотиву, знакомому нам по отечественной классике. По логике Вериной, обращаясь, например, к стихам Лермонтова на смерть Пушкина, перифразируя их, Блаженный создаёт сверхтекстовое единство – тот немой невербальный уровень поэзии, на котором как бы нет отдельных авторов, а есть их общее смысловое поле, есть высокое молчание, которое объединяет различных поэтов. И отдельный текст по означенной логике меньше этого величественного молчания…
Некоторое недоумение вызывает то, что Верина не пользуется общеевропейским понятием гипертекста, вызванным к жизни мировым опытом постмодернизма. (Вообще, при всей библиографической полноте сносок, в работе не хватает европейских имён – к их кругу относятся Барт, Лакан, Деррида). Гипертекст и подразумевает наличие не столько немого, сколько вербального поля, в котором является то или иное произведение литературы. Очевидно, что гипертекст – не есть цикл, не есть книга и не есть сверхтекстовое единство (на котором настаивает Верина). В смысловом «фокусе» гипертекста остаётся говорить не о молчании Блаженного или иных невербальных структурах, а о поэтике перифразы в творчестве Блаженного – явлении абсолютно традиционном и не вполне репрезентативном для описания признаков собственно современной поэзии. Для примера достаточно сослаться на «Цветок» Пушкина («Где цвёл, когда, какой весною?») и на стихи Лермонтова («Скажи мне, ветка палестины, где ты росла, где ты цвела?»).
Как видится рецензенту, Блаженный современен не фактом своего диалога с классикой, а скорее характером художественного переосмысления классики.
IV. Вместо заключения
Рецензент далеко не во всём согласен с автором монографии. Во-первых, стремление вычленить в современной поэзии невербальные коды (т.н. сверхтекстовые единства) далеко не всегда видится рецензенту вполне убедительным и плодотворным. Во-вторых, не во всём убедительна, полагает рецензент, интенция автора увидеть в поэзии последних полутора-двух столетий единую систему – причём систему жёсткую, жанровую. Автору рецензии видится не одна, а множество поэтических систем – причём не жанровых, а дискурсивных, т.е. гораздо более подвижных и гибких, чем жанровые каноны, жанровые традиции. В-третьих, не всегда и не во всём убеждает прямая или косвенная апелляция Вериной к крупной лирической форме, включая сверхтекстовые единства – например, книге стихов. Монументальное начало присуще всё-таки преимущественно эпосу, а не лирике и, кроме того, из контекста крупной формы выпадает многое. Как разместить в сверхтекстовых единствах, например, вызывающий минимализм Рубинштейна («Мама мыла раму»)? И к какому жанру отнести каталожные карточки Рубинштейна? или правомерно будет говорить всё-таки не о жанре, а о дискурсе интеллигента-либерала?..
И всё же – книга замечательная. В ней тактично поставлены и убедительно решены многие вопросы, касающиеся современной поэзии.
Во-первых, вызывает уважение энциклопедическая полнота монографии. Во-вторых, вызывает полное согласие одна имплицитная презумпция Вериной: поэзия всё-таки познаваема; да, страшно нарушить тайну поэзии аналитическим скальпелем, но при всём уважении к тайне, возможна, даже необходима и академическая филология, ибо без неё все наши представления о художественной ценности тех или иных стихов будут выглядеть коллективным заблуждением, коллективным мифом и даже просто случайностью. (Иное дело, что инструментарий и методологию познания словесности рецензент советует автору книги временами обновить). Наконец, в-третьих, и сами возражения рецензента автору книги говорят о живой многогранности темы монографии. Её автору невозможно навязать посылки рецензента, ибо, как поётся в песне Галича, «бойся того, кто скажет: я знаю, как надо!». «Как надо», разумеется, не знает и рецензент (иначе он был бы просто опасен для общества и нуждался бы в немедленной изоляции).





К вопросу о Пригове и Гомере: » Я ослышался, подумал я, при чем здесь Гомер и столпы нашего бывшего подпольного авангарда, но профессор тут же предупредил мое недоумение. Гомер, как известно из предания, был слеп. У Подстаканникова, напротив, слеп читатель. О Гомере спорят, сам ли он написал «Илиаду» и «Одиссею». Подстаканников все свое, так сказать, пишет сам, хотя некоторые другие столпы утверждают, что он списывает с безвестных опытов несправедливо забытого поэта Стаканникова. И последнее: Гомера мы знаем по переводам Жуковского и Вересаева, что только отдаляет нас от оригинала, а Подстаканников пишет на своем, ему родном и нам близком языке, а это приближает нас к оригиналу. Отсюда напрашивается вывод, так восхитивший моих калифорнийских оппонентов: Гомер абсолютно ни в чем не зависит от Подстаканникова, а Подстаканников ни в чем не повторяет Гомера. Но главное открытие: фамилия Подстаканников звучала первоначально как Постстаканников, упрощение имени произошло в связи с закатом постмодернизма…» Из книги «Башмак Эмпедокла», ОГИ, 2013.