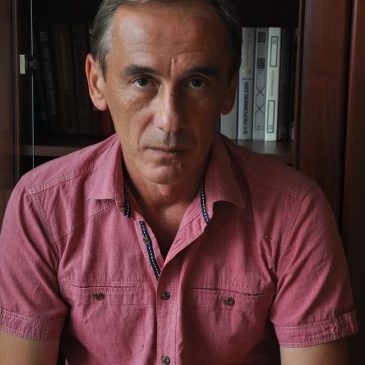Артур Доля окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Работал в журнале «Смена», в театре «Школа драматического искусства» Анатолия Васильева. Автор мистерии «Око Уджат», романа «Ленинский проспект».
Живёт в Москве.
Первый второй
Отрывок из романа
Спал на новом месте. Приснись невеста на новом месте. Снились кошмары. Утро изгажено сном. Одно успокаивает — какая невеста? какой из меня жених? Будь жених — сейчас бы пересматривал картины сна, пытаясь понять их смысл. В годы жениховства я был внимателен к подобной информации, к любой информации, — считал, что таким способом со мной заигрывают, не стараясь особо разобраться кто… какая-нибудь невеста… силы, олицетворяющие невесту… периодически изменяющие цвет, разрез, выражение глаз.
Нынче мне нечасто доводится спать на новом месте: перемещаясь в пространстве, постоянно держу в голове свой дом. Быть может поэтому, смежая веки, в качестве развлечения я все-таки брякнул: Приснись жених невесте, на новом месте, — и только потом, поняв, что сказал, поправился, — Приснись невеста жениху… да… приснись невеста, на новом месте. — Вот и получил:
По левую руку — представители красного креста, по правую — красного полумесяца, — две уходящие в бесконечность прямые. Меня прогоняли сквозь строй. — Бум, — раздавалось слева. — Ца-ца, — подпевали справа. — Бум ца-ца, бум-ца-ца, — звучало со всех сторон. А я не попадал в такт, бежал быстрее и все равно не успевал; как будто попасть в такт, значило спрятаться, стать в ряд, облачившись в белый халат запеть «Бум, бум, бум», спастись. За белыми халатами сгущался мрак. Кровавые всполохи озаряли горизонт. Куда тороплюсь, если там, впереди, я это твердо знал, меня ждет операционный стол?
— Кофе перепил. Откуда чистым снам взяться? — радостно крутит педали старенького велотренажера Раевский, под ним миролюбиво гудит аппарат. За окном яркий солнечный свет. Можно подумать, дорога идет под уклон, велосипедист плотного телосложения, с небольшим брюшком, легко летит по шоссе, оторвавшись от пелатона, без пяти минут чемпион. — Пока не найдем внятную историю, так и будут кошмары сниться.
Кофе мы пили вместе, до трех часов ночи. Искали внятную историю. Кошмары после этого, как понимаю, снились мне одному.
— Лично мне ничего не снилось, спал, как убитый, — подтверждает догадку Андрей. Нам можно работать в паре, понимаем друг друга без слов. А что касается врачей — мы же не фильм ужасов собираемся снимать? — обесценивает ночной кошмар режиссер.
Вот и попробуй найти с ним внятную историю, разжалобить или напугать потенциального зрителя. Позавчера он отправил жену в Тамбов на две недели — она давно собиралась проведать маму — и выдернул меня из семьи: Давай напишем сценарий. Я знаю, где взять деньги на съемку фильма.
Забавное предложение, если учитывать, что кинематограф придумал дьявол, притворившись братьями Люмьер; во всяком случае, я так считаю. И хотя не хожу к причастию, при виде золотых маковок церквей не осеняю лба крестом, а во время Великого поста ем скоромную пищу, но бесовские дела меня, как мирного обывателя, раздражают. Бог есть.
И я ответил: Давай.
Со вчерашнего вечера у нас идет творческий процесс, мы успели отмести с дюжину вариантов.
К примеру: по воскресеньям хожу на исповедь, держу строгий пост, умерщвляю плоть, выплывая на улицу из дверей станции метро «Кропоткинская», первым делом крещусь на храм Христа Спасителя и лишь потом смотрю по сторонам; знаю, не просто считаю, знаю — кинематограф придумал дьявол, каждый день провожу в борьбе с ним. И все равно соглашаюсь писать сценарий. Неплохая завязка для драмы, превосходная! два полюса напряжения, есть что с чем сталкивать. Но этот вариант я отмел, даже не озвучив. Как и не стал развивать идею с оперным либретто, несмотря на то, что хор представителей красного креста запел во мне: О, счастье нам! Он видит всполохи зарниц на горизонте! — А представители красного полумесяца дружно грянули в ответ: О, горе нам! Он видит всполохи зарниц на горизонте! — Сцена напоминала собой операционный стол. — О, счастье нам! — О, горе нам! — О, счастье! — горе нам! — Солист, гордо расправив плечи, стоял в самом центре, меж двух хоров. Его ария начиналась словами: Я ничего не вижу впереди…
— Не хочешь размяться, — Андрей слазит с тренажера. — Бодрит.
— Не-а… — от одной мысли, что сейчас надо будет крутить педали, становится физически плохо.
Раевский направляется в ванную. Пока он там фыркает под холодными струями, залажу на велотренажер, все равно мыслей никаких. Может, взбодрит? Кручу педали, легко, как чемпион. Становится плохо. В голове гудит, в глазах рябит, в ушах звенит. Старый маразматик, знал же, во что все это выльется. Так нет!..
Главный герой — велогонщик, — мелькает мысль. Победитель «Тур де Франс»… одного из этапов. Он отдает все силы борьбе и, первым пересекая финишную черту, умирает от остановки сердца, падает вместе с велосипедом замертво… нет, не так, впадает в кому. Его увозят в больницу: сирена, проблесковые маячки реанимобиля. Над ним колдуют эскулапы в белых халатах, — картинка из сериала «Врачи» или «Больница», — возвращают к жизни. В палату к чемпиону приходят две блондинки в бикини: по протоколу после каждого этапа победителей принято поздравлять. Вслед за ними вваливаются телевизионщики, заснять поздравление блондинок для новостных лент. Сидя на больничной койке, победитель откупоривает пятилитровую бутылку шампанского, обливает им своих соперников, занявших второе и третье места; они пьют из горла.
Что дальше? Вставляем смешную историю.
Веселье нарастает, доктора пытаются прекратить оргию, однако изворотливые телевизионщики — чего не сделаешь ради красивого кадра? — или одна из блондинок обводят медперсонал вокруг пальца.
Придумать, как они это делают. Теперь любовная линия.
Во время оргии герой влюбляется в блондинку, ту, что перехитрила врачей, посвящает ей свою победу и принимает решение уйти из профессионального спорта. Они поселяются в маленьком французском городке, с большим собором ХIII века. У блондинки дочь от первого брака, девочка тяжело больна, у нее по шесть пальцев на каждой руке. Приемный отец делает все, чтобы ребенок не чувствовал себя ущербным: Ты не такая как все, ты — особенная, — любит повторять он ей. Надо дополнить: первый брак блондинки распался из-за того, что биологический отец, увидев в роддоме шестипалую малышку, тут же ушел из семьи. После чего девочка росла с комплексом вины. Но теперь все ужасы позади. Полная гармоничная семья, с разнополыми папой и мамой помогают девочке расцвести, превратиться в красавицу…
Слишком много архаики, — думаю, опершись на руль велотренажера, — слишком много. Разнополые родители могут вызвать нездоровые ассоциации: Семья, Родина, Бог, — возможны обвинения в нацизме. Не стоит забывать, что дело происходит во Франции.
Итак, Сен-Жирон, или что-нибудь поменьше, Баньер-де-Бигор. Победитель этапа на больничной койке, подле него велосипедист, занявший второе место, — как бережно он поправляет чемпиону постель, ласково заглядывает в глаза! Если мы внимательно просмотрим кадры финиша, то увидим, что до последних метров двое вырвавшихся вперед спортсменов мчали по трассе колесо в колесо, не уступая друг другу ни сантиметра, и только перед финишной лентой один из суперменов сбавил обороты, пропуская второго вперед. После того, как недавние соперники выпили пятилитровую бутылку шампанского, серебряный призер признается победителю в своих чувствах. Пьяная блондинка, осознав, что женский стриптиз здесь неуместен, поднимает с пола бюстгальтер и кофточку, которые она, покрутив над головой, так красиво разбросала всего минуту назад, и, смахнув набежавшую слезинку с ресниц, первой поздравляет влюбленных. Велогонщики решают создать семью, удочерив шестипалую дочку блондинки. Все тут же начинают куда-то звонить, кому-то что-то объяснять, договариваться. — Сейчас будет, — говорит один репортер, давая отбой. Появляется священник с Библией. Церковнослужителя ставят в центре палаты, включают камеры. — Согласен ли ты взять себе в жены… — брак заключается на небесах.
Осторожно слезаю с велотренажера, усаживаюсь в кресло. Мне уже гораздо лучше, во всяком случае, в глазах перестало рябить.
А на следующем этапе их обоих переехал самосвал. Шмяк, шмяк, и все… даже не так, одно «шмяк» на двоих, — подчеркнуть тему любви. Какой-нибудь эмигрант из Казахстана по фамилии Свидригайло, решил проскочить, пока на трассе никого, и только выехал с грунтовки на асфальт, как вдруг из-за поворота они… и еще мотоцикл сопровождения в придачу. Впрочем, полицейский отделался многочисленными переломами, в новостных хрониках его почти не упоминали. Зато всем запомнилась симпатичная блондинка с лихорадочным блеском глаз, в тот день ее можно было видеть на любом канале, она говорила и говорила, прижимая к груди шестипалую сиротку.
В дверном проеме показался Раевский:
— Ну как, придумал что-нибудь?
— Нет.
— Идем завтракать. Яичницу с помидорами будешь? — не дожидаясь ответа, уходит на кухню.
Яичницу, так яичницу… Наверное, я поступаю подло: поднявшись, пинаю ногой велотренажер. Взбодрил, гад!
— Я тут что подумал, — доносится с кухни. — Идея с твоими докторами не так плоха.
— Отстой.
— И то верно, — легко, будто и не режиссер, соглашается Андрей; шумит в раковине вода, гремит посуда. Лет двадцать назад, заканчивая ВГИК, он сделал любопытную дипломную работу. Покатался с фильмом по фестивалям, взял премию «За лучшую мужскую роль второго плана», «За операторскую работу», и даже в Сербии «За лучшую режиссуру». Следующий фильм, а у него было множество планов: У меня родилась гениальная идея! — подразумевал «Гран-при». Я уже представлял его идущим по красной ковровой дорожке в обнимку с Умой Турман: Ущипни ее от моего имени. — За что там щипать? — На месте разберешься. — Но ущипнуть не случилось. И не то чтобы вокруг Раевского сложился заговор молчания, он оказался в пустыне. Нашлись люди, оценившие оригинальность его замысла: Бунюэль отдыхает, — говорили одни, или более сложно, цитируя Бодрийара, адвайту, Божественное писание, выражали свои восторги другие. А спонсоры не нашлись. Через год фильм со сходной идеей сошел со стапелей Голливуда, подняв большую волну. Андрей беззлобно шутил: Гуляй, на наши деньги, Тарантино! Женись! — В то время Раевский обивал пороги солидных учреждений, добиваясь финансирования нового проекта, и рефлексировать по поводу несостоявшихся побед было недосуг. Рефлексия пришла три года спустя, когда деньги все-таки были найдены, но в самый разгар съемок грянул кризис, и их ни на что не хватило. Будь у меня квартира, — рассуждал он после бутылки водки, — можно было ее продать. — Зачем? — интересовался я. — Чтобы доснять фильм. — А жить где? — Он внимательно посмотрел на одну стену комнаты, потом на другую, словно показывая, — сейчас-то как-то живу; перевел взгляд на меня. Промолчал. — Хватило бы? — Впритык. — После второй бутылки я чуть не предложил продать свою квартиру, но удержался. Мыкаться по съемным углам не хотелось. И мы пошли за третьей. — Собачья у тебя профессия, — говорил я по пути в магазин, — свободный художник и задавленный производственной необходимостью директор завода в одном лице. Это противоречит человеческому естеству. По уму они должны поубивать друг друга, а по жизни — обречены заниматься общим делом.
Моросил мелкий дождь. Андрей вышел на улицу не переобувшись, в резиновых тапочках на босу ногу. Тапочки быстро набрали воды и издавали чавкающий звук. Раевский молчал, словно не хотел заглушать звука шагов. Отчего-то казалось, что в чавканье есть какой-то смысл. В те годы у меня был небольшой комплекс перед режиссерами. Пользоваться словами, красками, звуками, высекать из камня, создавая прекрасное, это понятно. Но, вместо слов или красок использовать людей? манипулировать людьми?
— Ментовская у тебя профессия, — не унимался я.
Чавканье прекратилось, Андрей, перед тем как заговорить, всегда останавливается. Его собеседник, делая по инерции несколько шагов, вынужден разворачиваться, а то и возвращаться. Я развернулся, но возвращаться не стал.
— Неплохо сказано. — Он смотрел на меня, будто подсчитывал, сколько
меж нами шагов. Подсчитал. — По поводу мента ты погорячился. Следователь, не мент.
— А следователь не мент?
Чавканье возобновилось. И снова стало казаться, что есть в этих звуках какой-то смысл. Ритм был, это точно. И ветви качались в такт, и сам я слегка качался, и…
В те годы существовали люди, считавшие меня поэтом. Слава богу, почти все они живы, с некоторыми у нас до сих пор прекрасные отношения, взять того же Раевского. Просто я давно не говорю о поэзии, ни с кем, даже с самим собой. Поначалу, когда замолчал, из меня так и перло это… снисходительное отношение к поэтам. Как иначе, если все про них понимал? про смешную жизнь понимал? мудрым себя мнил. А ныне ревную. Любуюсь ими со стороны, как закатом. Чувствую невозможность пребывания в подобном состоянии.
Напрасно признался. Ведь сказано было: ни с кем не говорю.
Третья бутылка оказалась лишней. Не знаю, от жадности или из мазохизма, но как-то ее допили. Утро выдалось скверное, а тут еще телефон. Звонили из «Амедиа» с предложением снять сериал. Андрей блистал красноречием, цитировал Талмуд, Станиславского, Майн Камф, не выдал своего тяжелого состояния ни вздохом. Но в самом конце общения, сославшись на неотложный проект, вежливо отказался от предложения, чем поразил мою больную голову в самое сердце.
— Какого чёрта?
— Не следует делать то, за что позднее будет мучительно стыдно.
Теоретически я понимал, о чем он, но практически…
— И в чем здесь великий стыд?
Его объяснения, на мой взгляд, носили умозрительный характер, полдня, похмеляясь, я выслушивал их вместо того, чтобы рассуждать о вечном. Впрочем, все объяснения упирались именно в вечность. Такой получался затык. А на четвертый день я сбежал, дальше Андрей ходил за водкой без меня. Земля становилась чернее, осенние дожди все холоднее, и когда почернела настолько, что ее можно было сравнить с могильной ямой, выпал снег. Покрытая белым саваном, она произвела впечатление на режиссера, и тот, похрустев резиновыми тапочками по снегу, бросил пить. Новый год Раевский встречал в статусе преподавателя института культуры, что в Химках, в обязанности ему вменялось учить студентов актерскому мастерству.
— Нет, ты, конечно, снимался в эпизодах, даже в титрах мелькал, но какой из тебя актер? — вопрошал я после боя курантов, даже в такой момент не решаясь мешать водку с шампанским.
— Не путай винодела с пьяницей. — Новоиспеченный педагог встречал Новый год минеральной водой.
Все шампанское досталось женам.
Лет пять Андрей гордился своей работой, пересказывал удачные этюды студентов, показывал в лицах кто что сыграл, мог часами о них говорить: Талантливые дети… не все… два-три человека на курс. Жаль, при первой возможности в театральные вузы бегут. — Мотался из Сокольников в Химки: на дорогу два часа в один конец, зарплата, как у дворника, сложный учебный процесс. А потом его подсидели. Хочется верить, не ради денег. И студенты странно себя повели, будто ничего не произошло, вроде как не заметили.
Оставшись без учеников, Раевский сдался. Пошел и снял сериал. Обычный такой сериал, шестнадцать серий, с хорошим рейтингом. Бывшие студенты звонили с поздравлениями, рассказывали, какая без него в институте пустота. Им, вдруг, открылась пустота. Просто, буддисты какие-то, — хмыкал Андрей.
Тогда-то я и попробовал себя как сценарист. Забавно, никаких параллелей с поэзией, похоже на складывание кубика Рубика. Утверждать, что кубик Рубика от лукавого, язык не поворачивается. Разве может несложная головоломка, какой-то разноцветный кубик быть очагом зла? Скорее в поэзии есть нечто демоническое.
Андрею тут же предложили делать следующий сериал, тридцать две серии. Он снова дал мне подзаработать, и вновь переделывал все, что я писал.
— Не проще ли вместо меня взять кого-то другого? — страдало ущемленное авторское самолюбие.
— Не проще. С тобой можно работать, есть что переписывать.
— Спасибо.
— Зря ты… у других и этого нет. — Он протянул мне флешку. — На досуге просмотри.
Дома, читая, что написали другие, я старался быть объективен: говно говном, ничуть не хуже моего.
И вновь наш сериал обошел по рейтингу конкурентов с 1 канала, об НТВ и говорить смешно. Мы были на коне, телеэфир, как разрушенный город лежал у наших ног. Я размышлял, сколько серий взять себе в очередном проекте: жадничать или проявить благоразумие? Благоразумие означало Турцию, жадничать — заработать на отдых в Италии, или слетать с семьей на Гоа. Турция, если по чесноку, достала. Жадничать, значило, гнать халтуру в квадрате. Настолько презирать домохозяек у голубых экранов?.. я не настолько корыстен… но как же Италия? Капри?.. Что-то меня сдерживало, чтобы «настолько». Им же воспитывать детей!
Раевский без труда разрешил мой внутренний конфликт. Когда в нем говорит директор, все делается четко и быстро, без духовных борений. Он отказался от очередного сериала: Сколько можно мыло чесать?
— Какого фига? — спросите вы.
— А на фига?
Он прав, глупо переводить на мыло свою жизнь. Мне, созданному по образу и подобию, грешно создавать подобие образа. Есть в этом некая обреченность, словно в поисках выхода нащупываешь дорожку в ад. — Примерно так, довольно сложно, я размышлял о похождениях себя сценариста. О чем тут жалеть? Впрочем, был и другой вариант ответа: печаль не коснулась меня крылом лишь потому… ну же, говори правду! На Турцию, тем летом, у нас и так хватало бабла.
«Бабла», «по чесноку», — я не использую в жизни подобные слова, но в сериалах выводимые мной персонажи справляют свои естественные потребности в общении с их помощью. Полный трейдин, если по чесноку.
При чем здесь продажа подержанных авто?
Подумайте, заставьте работать свои подержанные машины.
— Чай? Кофе? — заслышав шаги из ванной, кричит Андрей.
— Чай. — Бодро, как на перекличке кричу в ответ. Я не служил в армии, но когда чищу зубы, всегда напеваю про себя «Турецкое рондо» Моцарта: Трам-там-там… — После этого, пятикилометровый марш-бросок в полном обмундировании — ерунда.
— Черный? Зеленый?
— Черный.
Раевский обдает кипятком заварочный чайник. Яичница с помидорами разложена по тарелкам. Как рыхлая женщина на блюде… томится в ожидании, раскинула загорелую плоть… с белыми прожилками, словно следы от купальника. Смотрю на нее и удивляюсь себе: желтая лампочка зажглась в голове, а поджелудочная железа не выделяет сок.
Полные мужчины готовят лучше худых. Я точно также пропускаю помидоры через терку, посыпаю крупной солью, потом вываливаю на раскаленную сковородку, когда сок испарится на треть — вбиваю яйца, перемешиваю, добавляю сливочного масла, выключаю плиту, не дав загустеть. Я неплохо жарю яичницу, но до Андрея мне далеко. Умел бы хорошо готовить, прожил жизнь холостяком. Тридцать лет назад в редкой столовой можно было вкусно поесть. Кто знает, из чего там готовились котлеты? Нет, я не раб желудка, котлеты мне никогда не снились, каким бы голодным ни лег спать, но и язвы себе не желал. Сегодня оглянешься — нет худа без добра, — не понимаю одиноких мужчин. Впрочем, сложись жизнь по-другому, мог бы недоумевать, рассматривая примерного семьянина: жена, дети, родственники жены, — и все толкутся на твоей территории, требуют внимания, застят горизонт. Полное отсутствие личной — бери глубже — внутренней — еще глубже — духовной жизни. Примерно так может выстраивать логическую цепочку старый холостяк, привыкший сливать три разных напитка: пиво — водку — красное вино, в один сосуд. Что ответит ему обремененный семейными узами человек, настолько же неразборчивый со спиртным? — Заткнись, неудачник! Ты утомляешь. — Что бы он мог ответить, проявляя терпимость к чужим слабостям? — При правильном движении по жизни к тебе приходит понимание простых вещей. — Ты движешься, но приходят к тебе? — возмутится смысловому абсурду неудачник. — Именно так, — ответит холостяку глава семейства. — Жена, дети, родственники жены — далее без остановок, — люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, — словом, все жизни, все жизни являются твоей личной — бери глубже — внутренней — еще глубже — духовной жизнью. Должно быть, об этом я писал дома прошлой ночью, чтобы явится к другу не с пустыми руками и, кто знает, попасть в десятку, услышать: Ты гений! — одним ударом все решить.
Не решил. Текст был разбит в пух и прах. Собственно, с этого и началась наша совместная работа. Пока мы с Андреем будем поедать яичницу — не раб я желудка, чего здесь описывать? — предлагаю вниманию отвергнутый текст.
Жду первой строки. Сажусь перед белым листом бумаги и жду. День жду, год, пятьдесят. У меня жена, двое детей, какая-никакая работа, планы на жизнь. Жду начала строки и вдруг понимаю, что нахожусь в конце повествования. Мне пятьдесят.
Как и большинство ровесников, я ощущаю себя на двадцать пять. Слышал, у шестидесятилетних та же цифра в голове. Двадцать пять, а с них песок сыпется, двадцать пять, а ведут себя как старые пердуны.
Норма говорит, стыдно быть юным оболтусом, если не юн. И мне стыдно. У меня жена, двое взрослых детей… я повторяюсь. Мне пятьдесят, я не люблю попирать норму ногами, я и есть норма. Норма морщится, ей оскорбителен такой пассаж. Морщины взяли в круглые скобки губы, распустили свое оперенье вокруг глаз. На самом деле мы сморщились вместе.
В прошлой жизни, в двадцать пять норма считалась оскорблением. Умом то я понимаю, как мало во мне осталось от него, готового умереть раньше Лермонтова. Любой прошагавший пол века по этой земле имеет со мной больше общего, находится ближе, чем он. Все измеряется пройденным расстоянием.
Профессор филологии 1932 года рождения, почти близнец водителю дальнобойщику того же года рождения. Оба пенсионеры. Дальнобойщику перестала сниться дорога, свет фар идущих по встречной полосе машин; профессору не является ночами князь Игорь с просьбой заново перевести «Слово о полку Игореве», — искушения закончились. Только сожаление по бесцельно прожитой жизни — цель позади. Засиделись они на одном месте. Транспортировать знания или астраханские арбузы доверяют другим, молодым. Слезятся старческие глаза — то слезы наворачиваются на глаза. У каждого человека должна быть цель в жизни, — вдалбливалось им со школьной скамьи.
Кто-то, — пусть будет жена, — возразит:
— Ты говоришь о способе проживания, а не о цели существования.
— Согласен. Но в социуме, милая женушка, способ проживания и есть цель. Не этому ли нас всех учили?
— Быть может, — отвечает жена, она у меня умная; не знаю, что думают по этому поводу другие. — Быть может ты прав.
Четверть века назад меня пленял подлунный мир, сегодня я люблю только то, что под солнцем. В известном смысле мы враги, тот я и нынешний.
Кто-то, — пусть это снова будет жена, — не согласится:
— Ты говоришь о двух сторонах одной медали.
Удивительная женщина, классика жанра. Как можно видеть мужа насквозь, и при этом не понимать меня? Добавлю, во мне ничего сверхъестественного, а если скромнее, ничего особенного. В пятьдесят не просто увидеть необыкновенного человека. Тем более в зеркале. Слишком много ты знаешь про себя, следовательно, и про всех остальных. Всему ты отец, включая себя самого, в каждом видишь ребенка. Дети притворяются рабочими и колхозницами, либералами и консерваторами, летчиками и следящими за ними в прицел зенитчиками, служителями культа, математиками, бухгалтерами, президентами и бомжами. Посади бомжа на ладонь, рассмотри его — сущий ребенок. Посади президента РФ, будь внимательнее. И только в глубоко пожилом возрасте интерес к переодеванию у детей — солидных, и совсем никаких — утрачивается. Никто никого не играет. Оставленные вне игры на даче в Горках, в бибиревской комнатушке или в доме для престарелых в Рузе, старики ведут себя как дети. Так это видится со стороны.
Всматриваюсь в чистый лист, — или в доме для престарелых в Рузе. — Что ты нежность себе сочинил?
«Ты» это «я», — чтобы не возникало путаницы.
Будь я гораздо мнительнее, мне бы показалось, что ладонь, использованная минуту назад под площадку для демонстрационного показа, после бомжа издает неприятный запах. Ну, ведь, не после президента РФ, правда? Принюхиваюсь, не воняет.
Со стороны видится, как мир…
— Удивительный мужчина, — спохватившись, возмутилась жена, — классика жанра. Сплошные амбиции.
Сказываются долгие годы совместной жизни — мы пользуемся одинаковыми формулировками.
— Как можно не состарившись комментировать собственную старость? Это все равно, что трезвеннику рассуждать о том, что испытывают люди в состоянии глубокого алкогольного опьянения, делая выводы исключительно из наблюдений за пьяными.
Резко выразилась.
— Даже хуже!
Что-то я разболтался со своей второй половиной, к тому же, она на работе, будет дома после семи.
— Быть может, это мой крест доживать в Рузе, — не может успокоиться супруга. — Женщины по статистике живут дольше.
Со стороны отчетливо видно, как мир меняется в лучшую сторону… Ну, это я так, ради эпатажа брякнул. Пусть соплеменники вздрогнут. В нашем распоряжении не так много фраз, противоречащих жизненному опыту рабочего и колхозницы, но при этом, несущих в себе здравый смысл; интеллектуальному опыту преподавателя математики, духовному опыту священнослужителя, политическому опыту президента РФ. Другими словами: со стороны видно все что угодно, только не изменения в лучшую сторону.
Всматриваюсь в чистый лист, — что-то мне виделось со стороны. Что-то прекрасное. — Впавший в детство глубокий старик; время, как моль, проело на голове плешь. И неважно, будут ли меня проведывать внуки, кому окажусь обузой. Не так важно. Меня завораживает название «Руза», я уже полюбил скамейку в двадцати шагах от центрального входа, на ней можно сидеть и ни о чем не думать, я даже не буду вспоминать.
Комкаю белый лист.
— «Норма морщится, ей оскорбителен такой пассаж». Кто у нас будет играть Норму? Ты?! — самое мягкое, что мне довелось вчера услышать. Про пенсионеров даже вспоминать не хочу. Ближе к концу экзекуции Раевский затих, долго всматривался в исписанный лист: близоруко щурился, светло улыбался, хмурился. После чего прочел: Всматриваюсь в чистый лист, — что-то мне виделось со стороны. — Как тебе со стороны? Понравилось? Представляешь, что будет на экране? — Возвращая листы, зевнул, иллюстрируя отношение к тексту. — Лирика. Под такое деньги не дают. Куда все это двигать?
— Исповедальная проза, — я быстро согласился, комкая листы. — Почти стихи. Невозможно перенести на экран.
— Оставь, пусть лежат. Снять можно что угодно. Может, как настроение… — Андрей попытался уловить настроение… еще раз попробовал… — Или образ какой используем. Ту же Норму. Непонятно, куда нас еще заведет. Главное, поймать кураж.
Я нервно разгладил листы и спрятал куда подальше. Сам виноват — знал же, что кинематограф от лукавого, — не надо было ввязываться.
— Попадешь в себя — попадешь в мир. — Раевский светло улыбнулся своему Я, или миру, что, в режиссерском прочтении, одно и тоже.
Докатились, он заговорил афоризмами. А я что? разве не в себя целил? в пустоту? Наблюдая за кем угодно — за Раевским — разве не в себя всматриваюсь? Во мне проснулось чувство оскорбленного достоинства.
— Авторский кинематограф пока никто не отменял. И деньги у нас дают подо что угодно, в России деньги ничто. Никогда они здесь ничего не определяли. — Я распалялся от звука собственного голоса, моя речь обогатилась бессмысленными повторами, запестрела словами «никто», «ничто», «никогда», «ничего». — В любой момент из-под земли может вынырнуть богатый маньяк с объятиями: Вот вам братцы три лимона зеленых! Делайте то, что задумали. — На все судьба.
Художник, живущий в Андрее, согласен терпеть лишения ради возможности поделиться своим видением авторского кинематографа, и, заодно, пройтись гигантской газонокосилкой по маньякам, предварительно усадив их, как зеленых кузнечиков, на стебли высокой травы. Но, почувствовав, что я готов взорваться и повредить налаживающемуся процессу, директор, живущий в Андрее, решил не обострять ситуацию.
— А Путин на ладони — смешно. Так и просится в кадр. И мысль, какая-никакая проглядывает. Есть куда копать. — Польстил самолюбию, для достоверности даже языком цокнул. Потом, убедившись, что волна гнева пошла на убыль, добавил. — Жаль «Семнадцать мгновений весны» успели до нас снять, не переплюнуть.
Вот и доел яичницу с помидорами. Не завтрак, а самоедство какое-то. Словно во время секса думал о неприятностях на работе. Сладко ли тебе было, красный молодец, несладко? Не помню, но есть не хочется. Наверное, солнце било в разрыв меж облаками, светило сквозь ветви в окно, сверкало на ободке тарелки, Андрей аппетитно чавкал, загорелая плоть с белыми прожилками от купальника отдавалась ему, становилась его плотью. Я что-то жевал за компанию, по-видимому, яичницу, пил крепкий чай с конфетами «Моцарт», кивал головой, поддакивая Раевскому; был роботу подобен. Снова проспал часть незабываемой жизни.
Восьмидесятидвухлетний пенсионер зарубил топором семидесятидевятилетнюю супругу, приревновав ее к соседу по лестничной клетке. — В поисках рабочего материала Андрей читает криминальную хронику, шелестит газетой, после каждого прочитанного сообщения прихлебывает чай, поглядывая в мою сторону.
Иногда мне кажется, что я иду по лезвию ножа, любая история может произойти, ни от чего не застрахован: бытовое убийство произошло вчера утром в Сокольниках. Пятидесятилетний Сальери во время завтрака зарубил топором сорокадевятилетнего режиссера. После чего, спрятав окровавленный топор под холодильник, вызвал «Скорую помощь». Приехавшие врачи констатировали смерть. — Что вас толкнуло на этот шаг? — Творческие разногласия, — ответил на вопрос полицейского душегуб. При обыске в кармане брюк убийцы нашли подтаявшую шоколадную конфету «Моцарт».
Подушечкой указательного пальца разглаживаю обертку конфеты, ногтем затираю складки на фольге, рассматриваю портрет Вольфганга Амадея. Как меня нынешнего не редактируй, измени возраст, мир, профессию, расставь вокруг благодарную публику: «Волшебные звуки»! — Нью-Йорк таймс, «Он открыл новые горизонты»! — Дойче вельд, — «Через его музыку с нами говорит Бог»! — Пари матч, — не могу представить себя в роли Моцарта. Но в двадцать пять, в том же Раевском, без труда углядел бы Сальери. Моцарт — если подумать, — наблюдал в Сальери друга. Смотрю на друга, как его не ретушируй, — убери морщины, напяль на голову парик с буклями, — не вижу Моцарта.
Белый парик с буклями, сюртук из красного сукна, шелковая сорочка с кружевным воротником, — рассматриваю портрет Вольфганга Амадея, — жлоб жлобом; типичный представитель австрийского дворянства XVIII века.
— Двое грабителей в масках, ворвавшись в ювелирный магазин… — продолжает Андрей.
Скручиваю фольгу в мячик, затираю углы о поверхность стола, пытаюсь создать идеальную форму шара.
— …разбив молотком витрину… — доносится голос.
А если б и вправду зарубил? Творческие разногласия — вечно в подвешенном состоянии — во сне кошмары — никаких обнадеживающих перспектив. Две недели такой работы и нервы ни к черту, на каждый шорох начну вздрагивать. А тут… тюк! обухом по голове, в порыве отчаянья, и все. Остается набрать 911, бессмысленно уставиться в стену, сидеть, ждать, пока за мной не придут… последние минуты на свободе. И полная апатия, — все равно, что дальше будет; дальше не будет ничего, — можно наблюдать за собственным телом со стороны: вот оно, рядом, покоится на стуле; зачем его трогать? нас разделяет пуленепробиваемое стекло. Либо пуститься в бега. Заехать домой, объявить жене, что уезжаю: На днях меня объявят во всероссийский розыск… ничего уже не изменить. — Предупредить: Когда тебя будут допрашивать, скажи, что собирался бежать в Испанию. Нужно пустить следствие по ложному следу. — Договориться о встрече: Пусть все немного утихнет. — И шепотом, чтобы не услышали дети. — Запомни, ровно через год в 16.00 на скамейке Тверского бульвара, у памятника Есенину. — Забрать наличность, какая имеется, обручальные кольца, ноутбук… лишить детей ноутбука! Потом на три вокзала. Скрываться от правосудия в провинции самоубийство, там каждый новый человек событие для окружающих, иголку лучше прятать в стоге сена, в Москве. Приехать на Комсомольскую площадь, найти на Казанском вокзале людей, торгующих поддельными документами, купить паспорт, снять по нему квартиру в Ясенево, затаиться и ждать, пока за мной не придут, или пока не истечет срок давности за убийство; подходить к входной двери, вслушиваться в шаги на лестничной клетке, не дышать.
— …план «Перехват» результатов не дал. — Раевский ставит чашку на стол, сворачивает газету, произносит голосом разуверившегося в жизни человека. — Нет приличного материала.
— Восьмидесятидвухлетний пенсионер зарубил топором семидесятидевятилетнюю супругу.
— Ну и что? — ворчит режиссер.
— Материал.
Андрей снова шелестит газетой, находит текст, пробегает глазами:
— Жили-были старик со старухой, а в финале он ее зарубил.
Все-таки приятно иногда быть непонятым людьми. Почти злорадное чувство:
— То, что тебе показалось финалом, на самом деле завязка: старик зарубил старуху. Имелись у него основания или всего лишь почудилась измена, зритель должен понимать не раньше, чем закончится фильм.
Раевский кисло улыбнулся:
— Дедуля сидит в тюрьме и вспоминает прожитую жизнь.
— Не сваливайся в мелодраму.
— Во что я должен свалиться, если основная идея: был у него повод убивать или нет? В черную комедию? — наивно интересуется режиссер.
Прав, ехидна! Надо четче формулировать мысль, не с собой разговариваю. Святая уверенность, что собеседники находятся на одной волне, поэтому не стоит все проговаривать, уточнять детали — достаточно определить направление движения мысли, и можно перескакивать с объекта на объект, пытаясь настичь неуловимое, — в очередной раз выставила меня недалеким, самоуверенным существом. С таким сознанием да затевать полемику — устанешь от плевков утираться.
— Дедуля пускается в бега. Он не намерен проводить остаток жизни в тюрьме, — сколько той жизни осталось? Теперь это загнанный волк. Закончились деньги — грабит ювелирный. Покупает в «Детском мире» пистолет, не отличить от боевого, надевает чулок убиенной супруги на голову, упирается игрушечным стволом в спину охранника: Кто хочет умереть героем? Ты?! — Мы видим, как на штанах охранника появляется мокрое пятно. Старику везет — то, чего не было с ним последние лет пятьдесят — он выбегает с добычей на улицу и растворяется в толпе: камера теряет налетчика из вида, мечется, прочесывает квартал за кварталом, наконец, останавливается, зафиксировав его в гастрономе покупающим хлеб с колбасой. Нет смысла заботиться о здоровье, — думает пенсионер и берет кока-колу. Пьет колу, кормит хлебом голубей на Патриарших прудах, напрягается при виде спешащего мимо полицейского, смотрит вслед стражу порядка тяжелым недобрым взглядом. По всем приметам, у старика наступила вторая молодость. Дождливая осень, ранние сумерки, дед сидит на скамейке, недалеко от бронзового Крылова и ест мороженое. Рядом аккуратно одетая старушка роется в загаженной урне, чем-то неуловимо напоминая безвременно ушедшую жену. Старик вынимает из кармана горсть ювелирных украшений с бирками, выбирает оттуда золотую цепочку, серьги, и отдает горемыке. Наверняка у нее есть свой угол, приличная, по российским меркам, московская пенсия. Что она потеряла в жизни, чем хочет разжиться, переходя от урны к урне? Куда тащит мусор, домой? — Размышления до сего дня не являлись характерной чертой существования пенсионера, даже реформа ЖКХ не вызывала желания рассуждать, и вдруг, такое баловство. — Почему от нее не воняет? — Мимо на велосипеде проносится ребенок, распугав голубей. День назад в спину мальчишке полетели бы проклятья, а сейчас, морщины сплелись в улыбку.
Крупный план: улыбка понимания на лице.
Андрей морщится при упоминании крупного плана, его раздражает, когда сценаристы залазят на чужую территорию: кроме режиссера никто на площадке не должен знать, как снимать. Я замолкаю. Смотрим друг на друга. Один… два… три…
— Извини.
Время от времени актер должен испытывать легкое чувство вины, — если верить Раевскому. Повторюсь, режиссер ментовская профессия. Пусть побудет актером, недолго, пока досчитаю до десяти, — девять… десять.
Извинения приняты.
— Становится прохладно…
Андрей понимающе кивает головой: да, да, продолжай, прохладно.
— Старик заходит в молодежное кафе, заказывает кофе. В начале фильма мы должны показать, что у него повышенное давление: тонометр, таблетки на столе. Сейчас, когда мир полон событий и красок, соткан из угроз, артериальное давление стабилизировалось. Любому фору дам. Раунда против меня никто не выстоит! — думает убийца, рассматривая посетителей за соседними столиками: Изнеженные, безвольные лица! Об них только кулаки разбивать. — И в этот момент замечает за собой слежку. Пытаясь выглядеть беззаботным, шаркая разбитыми башмаками, каждым движением подчеркивая свой почтенный, неопасный возраст, неторопливо покидает кафе. Оказавшись на улице, резво перебегает чрез дорогу, запрыгивая в уходящий троллейбус. Сходит на следующей остановке, быстрым шагом направляется во дворы. Не успевает пройти и тридцати метров, как кто-то снова садится на хвост. Выбрав безлюдное место, пенсионер вынимает безотказный, проверенный в деле пистолет, резко разворачивается, наставляя оружие на преследователя: Руки! Подними руки! Покажи мне свои руки! — Насмерть перепуганный пешеход умоляет не убивать: Не берите грех на душу! — как-то так, в стилистике Достоевского… возможно, слезинка ребенка. Отдав грабителю мобильный телефон, случайный прохожий сбегает, оставляя старика в недоумении. Что-то неправильно, — размышляет преступник, разглядывая чужой мобильник, — что-то тут не так. Не вяжется одно с другим. Если за мной установили наружное наблюдение, значит, оперативник валял комедию, разыгрывая испуг. Перестрелки, погони, — заштатная для них ситуация. А если не притворялся, тогда зачем наступать на пятки? загонять в угол? Решили проверить на что я способен? — Хмыкает, вспоминая перепуганного мента. — С помощью локатора они будут за мной следить! — Спохватывается пенсионер, выбрасывая телефон. И тут же вспоминает бабульку, рывшуюся в урной: Старая карга! Все вынюхивала что-то, высматривала. Делала вид, будто ей на меня плевать! — Поклонникам ментовских сериалов хорошо известно, как оперативники любят рядиться в сантехников, новобрачных, дорожных рабочих, и еще не пойми кого. — А я-то, дурень, расслабился! милостыню ей дал! — Давление прыгнуло, старик осознал допущенную оплошность: Даже бирки не оторвал! — Страдая одышкой, с небольшими, но частыми остановками семенит на Патриаршие пруды. Цепким взглядом осматривает территорию, — старушки нигде нет. Прочесывает местность: нет! В голове единственная мысль: улики! как избавиться от улик? Роется в урнах, тех самых, где рылась она, надеясь на чудо. Они уже приобщены к делу как вещественные доказательства! — чуть ли не завывает преступник. Мания преследования усиливается. В одном человеке… потом в другом… в третьем… в каждом живом существе начинают мерещиться богини мщения, Эриннии. Сначала они молча преследуют старика, и тот, пусть с трудом, но как-то мирится с их существованием. Но затем Эриннии обретают голос, и каждое их слово, как жалящая оса. Через день мы находим его с воспаленными глазами, едва живого, у костра посредине городской свалки, в кругу бомжей. Старик заговаривается, вызывая злые насмешки и хохот собравшихся, но не обижается, понимая, что это никакие не люди, а дочери Зевса Хтония и Персефоны, принявшие облик бомжей.
Первая Эринния. Нас много здесь, но речь не будет долгою.
Вторая Эринния. Мы задаем вопросы, отвечаешь — ты.
Третья Эринния. Вопрос наш первый. Правда ль, что жену убил?
— Да, правда. Я убил. Не отпираюсь, нет.
Четвертая Эринния. Теперь сказать ты должен, как убил ее.
— Скажу. Своей рукою, топором в висок.
Пятая Эринния. Кто так велел, кто дал тебе совет такой?
— Божественный провидец, он свидетель мой.
Шестая Эринния. Так, значит, бог тебе сказал жену убить?
— Да. И доселе не браню судьбу свою.
Седьмая Эринния. Заговоришь иначе, приговор узнав.
— Что приговор ваш? Только после тысяч мук
И после тысяч пыток плен мой кончится.
Бомжам надоедает полоумный старик, они избивают его, обшаривают карманы — ни ювелирных украшений, ни детского пистолета; сто рублей медью весь улов, — и оттаскивают в сторону, оставляя подыхать. Через минуту про него уже все забыли.
Бесконечная свалка. Одной поломанной вещью на ней прибавилось. Но покуда бегут титры, слабые стоны разносятся над помойкой.
Спасибо за то, что читаете Текстуру! Приглашаем вас подписаться на нашу рассылку. Новые публикации, свежие новости, приглашения на мероприятия (в том числе закрытые), а также кое-что, о чем мы не говорим широкой публике, — только в рассылке портала Textura!