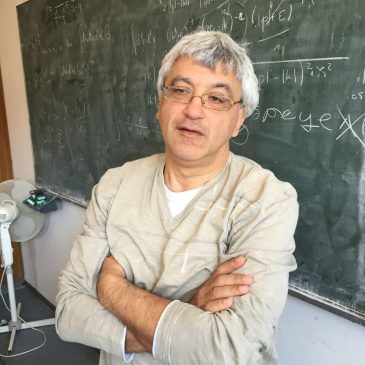Юрий Хуторянский, творческий псевдоним Лавут-Хуторянский. Родился в 1955 году в Москве. Закончил Московский институт электронного машиностроения, кафедра прикладной математики, второе образование – ГИТИС, кафедра режиссуры музыкального театра. Работал в разных местах и сферах – от Братской ГЭС до директора театра в Москве.
Пишет стихи, прозу, афоризмы. Из публикаций: детская книжка «День рожденья, или Шоколадное воскресенье», сборник стихов «Цвет», сборник стихов «Звук», сборник стихов «Цвет и Звук», 2015 г. – «Голос травы».
Имеет публикации стихов и афоризмов в российских СМИ.
Электронные письма виртуальному другу. Часть II
Часть I см. здесь. Целиком цикл, состоящий из пяти писем, можно прочесть здесь.
Письмо 2.
ОЙ ТЫ, ГОЙ ЕСИ, ДЕВА КРАСНАЯ!
Через века проявлявшиеся в русском языке тенденции к возрастанию звучности и смягчению согласных, стремление к открытому слогу, вполне отражают его глубинную женскую сущность. Женскость объясняет, персонифицирует и оживляет драгоценное национальное достояние – русский язык, продолжая по-своему влиять и менять его.
Тезис этот, если бы имел шансы на обсуждение, не мог бы не вызывать глубокого народного несогласия. Времена Национальных Обид открыли нам, как надули всех олигархи, обманом выхватившие из дрожащих народных рук милую, как паровая машина, но ещё грозно грохотавшую советскую промышленность. Вспомнилось, как коммунисты уничтожили незаметно для остального населения миллионы лучших её сынов, а в двухтысячных телевизор нам показал, как нас предали (сделали скрипучее «treachery») братские народы! Младшие братья наши отвергли не только всё то бесконечно доброе, что для них делалось веками, а может быть даже тысячелетиями, но и язык, на котором всё это делалось! А ведь одно дело – быть подло отвергнутым мужчиной (например, англичанином или испанцем, языки которых почему-то остались в их бывших колониях), и совсем, совсем другое – быть бабой, которой попользовались и бросили, по старой доброй традиции, в набежавшую историческую волну. В этих обстоятельствах народу невозможно сказать о его женскости. Разве что когда Великий Пётр, Грозный Иван или Великий и Грозный Иосиф вздымают вдруг тебя под уздцы над необъятными просторами! Тогда ты не какая-нибудь малоубедительная сивка-бурка, но мощная конская плоть, типа Екатерина Великая. Ладно, в этом случае Великое и Грозное пусть сидит на народной спине сколько хочет, пусть творит «по щучьему велению и своему хотению» аж до собственного альцгеймера суверенную разновидность степной демократии.
При таких вот сексистских обстоятельствах Языка должна преодолевать имманентное азиатское хан(м)ство и по-тихому гнуть свою женскую линию, веками пожиная следствия своей женской судьбы: сначала взяли вроде в приличную степную семью, но не признавали своей, долго и мучительно третировали как замарашку, потом вдруг стали приучать к пышностям азиатского двора: убирали, украшали и натаскивали, обвешивали тяжёлыми восточными одеждами и тюркскими побрякушками. Потом сняли накидки и научили смелым заморским новинкам и манерам. Приходилось и конфликтовать: распознавать чужих, устанавливать границы и обороняться, а кроме того, нападать и завоёвывать. И, наконец, сегодня от этой особы требуется конкурировать с другими, искать успеха и демонстрировать доступность.
Требуется-то требуется, но что она может с сегодняшним страдальцем-хозяином, лежащим на печи и думающим, что это национальный способ вставания с колен?
Действительно, что происходит с русским языком, благодаря распаду империи и эмиграции миллионов его носителей получившем возможность превратиться в язык международный? Увы. Империя, озабоченная светлой перспективой дальнейшего распада, даже не замечает того, как неожиданным образом может исполниться прежняя мечта, как на место неудачной попытки проникновения с коммунистической идеологией пришла возможность обосноваться в десятках стран мира с эмигрантами, привозящими не только русский язык, но и русскую культуру. Перепутавшая столетия империя, при обычной своей неповоротливости, «позднем уме» и вечном «своя своих непознаша», уверенно упускает возможность за возможностью. Она не замечает шанса перейти из состояния аварийно-катастрофического шоу в явление культурного взрыва. Нет ни сил, ни стержня, ни азарта, ни настоящей любви к своей культуре и языку. Она занята приспособлением и имитацией, демонстрируя на каждом случайном подиуме обнажённый торс с криком: мужик я, мужик, а не баба! Но куда девать груди?
Дай же нам, Господи, благодатный крах без крови, распад без войны и раздел без ожесточения…
…а сегодня страна меняет законы, как купчиха наряды: вот это стало тесно, вот это оказалось не к лицу, и любимое, старенькое, хорошо поношенное натягиваем дома, лучше чтоб сосед не видел. Важнейшие из законов поменялись по нескольку раз, меняются даже области действия Кодексов. А ведь многие, вполне симпатичные, страны выработали и отточили свои законодательства, исходя из простых, подходящих и нам, гуманных принципов. Казалось бы – ура – законодательства эти не только выписаны до мелочей, но уже имеют опыт сближения и вхождения в жизнь других восточноевропейских народов. Даже при наличии очень осмотрительной ко всему чужому и сплочённой в своих долговременных и чадолюбивых интересах мафии можно было бы взять очевидное в обширнейших областях экономического и административного регулирования: градостроительный, жилищный, административный, водный, налоговый, земельный кодексы, и т.д. и т.д. Но сама суть национального характера боится и не хочет принять чужой, мужской, опыт, где всё не впору, всё слишком определённо, где то «человека потеряли», то «вишнёвый сад порубили», то «бога забыли». Опасаясь, на самом деле, что женщина с этими мужскими подходцами останется у разбитого корыта, потеряется в гареме или будет куковать соломенной вдовой – в другие варианты своей женской судьбы ей не верится. И так это грустно, что косы сами опускаются в чистую речную воду, где на берегу берёзка с плакучей ивой, а белы лебеди готовы унести нас от всей этой мужской помойки в какие-нибудь чудесные края. А раз так, раз так сильно хочется, красавица моя, то и полетели! Что у нас, господа мои хорошие, в поэзии, где вроде бы не должно быть проклятой зависимости от азиатской географии и скуластых бандитов?
Законы и правила, взятые с Запада, постепенно выстроили силлабо-тоническую систему как законодательную систему русской поэзии, она воспитала наш слух, ранжировала эмоции и настроила душу. Усвоены спондеи и дактили с анапестами, правило альтернанса, анжамбеманы и пр. Метрика и ритмика. Строфика. То есть структуры, материалы и сырьё, сочетая которые возникает плоть поэзии. И если из законодательной «глины» стабильные петербургские пацаны лепят для своего нетребовательного народа неказистые горшки да плошки, то, что выходит из-под рук, направляемых музой и не так тесно связанных с каморрой? Что получается у нас из поэтической глины, как Вам кажется, виртуальный друг мой?
Письмо 3.
ФОРМА – СПОСОБ КОНТАКТА С БУДУЩИМ
Что достойного, соответствующего размерам, оригинальности, количеству народа и времени присутствия на исторической арене вложено нашей русско-татарско-еврейской культурой в мировую копилку? Архитектура – мимо, философия, идеология, религия – всё чужое, о науке-технике уже можно говорить только с благотворительной целью проявить уважение к потенциалу.
Литература, музыка и изобразительное искусство! И это немало. Можно гордиться своим вкладом в мировую культуру. Не будем, однако, закрывать глаза на консервативную и, в целом, заимствованную форму у сделанных нами вложений (исключения, как и достижения в науке-технике, связаны с коротким периодом предчувствия, а потом мобилизационного большевистского вдохновения, что весьма показательно).
Культура, не имеющая внутри формотворческого заряда, относящаяся к форме небрежно, легко ставящая штамп: «формализм», не воспитывающая чувства стиля и высокомерно, с ходу, отвергающая «школу представления» для «школы переживания» – неизбежно сталкивается с тем, что само новое содержание без яркой, точной формы сильно теряет в «сроке хранения».
Храмы по шаблону. В отместку, как храмы, строятся сталинские высотки, становясь для следующих поколений чуть ли не единственным высоким образцом. Потом, как символ, Новый Арбат, потом, ещё через пятьдесят лет, Сити. Каждый раз населению кажется, что это заявки на Своё Величественное, а в результате общая вторичность, Шанхай и убогий вид городов и деревень. Там, где по России прошёл российский человек, – там помойка не только в прямом, но и в архитектурном смысле. А ведь он, естественно, прошёлся подробно.
Если говорить о великой русской литературе, то ответственность (по принципу «кому больше дано, с того больше спросится») в первую очередь лежит на Поэзии. И что? Что происходит с формой? Ничего сейчас и ничего раньше! Может быть, форма не держится этой глиной (падает, как падали кремлёвские башни, пока не пришли итальянцы)? Почему человечки получаются, а кирпич из этой глины плох? Может быть, потому, что башни, форма не нужны были никогда? Для чего ценить форму, если скоро степной монголо-татарский ветер налетит и разрушит всё возвышающееся, всё противопоставленное (сосед подожжёт, большевики-опричники отнимут и т. д.).
Форму ценит тот, кто сам понастроил бесформенного, разочаровался, сломал, потом опять очаровался, и ещё раз сломал, пока не понял ценность формы, её перспективность, её протянутую в будущее руку и связь с содержанием. А что можно понастроить-очароваться-разочароваться, пребывая в рабах, даже если ты и дворянин, а если и не в рабах сегодня, то вчера был в рабах и завтра будешь? Раб может быть только пластилиновый. Делай как сказали, не твоё! Строй «как замки строиться должны», «как церкви строиться должны», «как избы строиться должны». Рабам не требуется форма. Рабам не требуется архитектура. Никто даже не заметил возникшей в девяностых годах исторически уникальной возможности преобразить почти разрушенную тогда Москву. Возможность эта была «по моему хотению» загублена пошлым мэром и таким же его окружением, при совершенно пластилиновой проституточности архитектурно-культурного сообщества и коровьем безразличии народном. Москва – это что за город? Может, это гнездо, родной угол, тёплый, свой, близкий город? Нет. Произведение искусного человеческого труда и творческой мысли? Нет. Творческий повтор достижений европейской культуры, построенный пусть и на костях, как Петербург, но невольно впечатляющий? Воплощение чего-нибудь духовно-национального? Нет. Максимум: «Золотая моя столица» (о, г-н Лужков!), или «Как много в этом звуке» (звуке!), и ещё «Москва, я думал о тебе!» – это всё. Сейчас думать об этом бездарном золотом звуке горько. Новый кремлёвский оленевод озаботился наружной чистотой юрты, передвижением саней и ярком украшении к праздникам – и народы тундры не нарадуются…
Даже если с площадей, по телевидению и в песнях провозглашается родство и духовная близость, истинное ощущение раба: всё чужое, ничего не жалко, в том числе себя. А когда вдруг кому-то одарённому предоставляется возможность заявить своё, нутряное, сердечное, горькое, сладкое или кисло-сладкое, то всегда приходится торопиться: Свобода недолговечна.
Торопиться задеть за живое, торопиться построить, торопиться пропеть-проплакать-прокричать, ведь скоро ветер переменится, и опять будешь делать по образцу и чужое. Там, где живут рабы, там Ремесленник – это ругательство. Аглицкое сукно, немецкая работа, французский стиль – всё не своё, всё с издёвкой, всё чужое. А своё – это женское, но не то, что глупый чужеземный глаз видит снаружи, кося на русскую красоту своими злыми очами. Это то, что внутри, в серале! Это мягкость, это воск, мёд, это пенька и шерсть, это натура и нутряное, целебное: жир, кровь с молоком, струя. Да, конечно, это ещё и мужчина: жен. род, ед. число, хорошо склоняется, и не только по падежам. А как он может быть другой? Бывали другие, бывали, рождались тут всякие прочие мужички, пробовали вякнуть, да всем им головушки-то быстро почикали. Потом опять такие появились – и тоже почикали, потом другие ещё – тогда и этим. Остались понятно какие. Кто ж башню построит?! Так в жизни, так в языке, так и в поэзии.