Ольга Балла-Гертман
Литературный критик, эссеист. Окончила исторический факультет Московского Педагогического Университета. Редактор отдела философии и культурологии журнала «Знание-Сила», редактор отдела публицистики и библиографии журнала «Знамя». Автор книг «Примечания к ненаписанному» (USA, Franc-Tireur, 2010) и «Упражнения в бытии» (М.: Совпадение, 2016).
Кругом воплощённый огонь
(О книге: Виктор Качалин. Письмо Самарянке. Владивосток: niding.publ.UnLTd, 2017. – 74 c.)
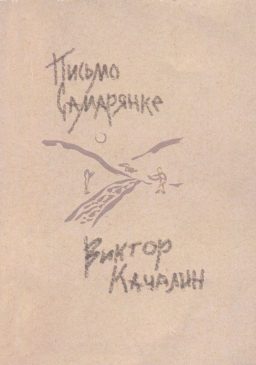 В маленький, но плотный сборник – владивостокское издательство «niding.publ.UnLTd», издающее современных поэтов, вообще предпочитает выпускать небольшие книжки с исчезающе-малым, даже и не обозначенным здесь тиражом (до многих ли дойдёт?) – Виктор Качалин собрал некоторые свои стихотворения 2010-х годов. Качалин публикуется редко – по крайней мере, на бумаге; во всяком случае, существенно меньше, чем пишет вообще (в интернете – заметно больше, что и даёт заинтересованному читателю возможность составить себе представление об основных направлениях его поэтической работы вообще и догадаться, что тексты, вошедшие в этот сборник, есть смысл читать одним потоком – как часть единой поэтической работы).
В маленький, но плотный сборник – владивостокское издательство «niding.publ.UnLTd», издающее современных поэтов, вообще предпочитает выпускать небольшие книжки с исчезающе-малым, даже и не обозначенным здесь тиражом (до многих ли дойдёт?) – Виктор Качалин собрал некоторые свои стихотворения 2010-х годов. Качалин публикуется редко – по крайней мере, на бумаге; во всяком случае, существенно меньше, чем пишет вообще (в интернете – заметно больше, что и даёт заинтересованному читателю возможность составить себе представление об основных направлениях его поэтической работы вообще и догадаться, что тексты, вошедшие в этот сборник, есть смысл читать одним потоком – как часть единой поэтической работы).
Работа же – начавшаяся задолго до первых страниц этого сборника, идущая не первый год, даже не первое десятилетие – состоит в том, что Качалин создаёт и культивирует собственную мифологию, собственное повествование о происхождении и (динамическом) устройстве мира. В ходе этой работы наращивается гипертекст, в поле которого, по всей видимости, и следует понимать отдельные стихотворения Качалина. Как и положено мифологиям, он отвечает на самые коренные вопросы: о силах и стихиях, образующих мир, об укоренённости человека в мире и его взаимодействии с ним, о жизни, смерти, о неокончательности того и другого, об их единстве.
То, как эта мифология устроена, вполне поддаётся и продумыванию, и даже рациональному моделированию. В принципе, её можно было бы назвать не только мифологией, но и метафизикой. Однако создание (выявление?) этой системы представлений для автора – задача скорее художественная, чем, скажем, философская или вообще умозрительная. Эта задача принципиально решается средствами эстетическими, образными, непонятийными, с вовлечением всего чувственного существа пишущего, с апелляцией ко всему чувственному существу читающего.
Точных соответствий какой-либо из уже существующих символических систем нам здесь не отыскать, но коренные общие черты с ними и постоянные отсылки к ним обнаружим во множестве. Поэт заимствует элементы из мифологических и религиозных представлений разных народов – греков, индийцев, китайцев… И христианство здесь, кажется, не первенствует и не задаёт общего характера происходящего, хотя из него заимствуется многое, в том числе существенное, вплоть до вполне прозрачных отсылок к самому Христу: лирический герой, сойдя во ад, намерен «молчаливо петь им (мёртвым. – О.Б.-Г.) о Свете, что пришёл во плоти», – а то и до прямого Его называния: «танцующие в собственной крови приветствуют» Младенца из Вифлеема, в грузинском храме Тимотесубани «Богоматерь / на простейшем троне, / вглубь приняв Младенца, держит его въяве…», до открытого утверждения: «Хороша вера в Троицу, / когда кругом воплощённый огонь…». Христианство посылает в эти стихи ангелов и святых, ведёт за собою и ветхозаветных персонажей – Самсона с Далилой, Суламиту, Ноя, Авраама, Иова. Оно предоставляет также некоторые основные интонации, некоторые важные места действия (Иерусалим, Иордан, Афон). Заимствуется оттуда и лексика с её обертонами, с её культурной памятью. Достаточно сказать: «Древний добытчик мёда, / Воссиявшу солнцу, идёт…» – как уже один этот старославянизм указывает нам на то, что речь идёт о сакрально значимом действии (и да, мы не ошибёмся).
Элементы, взятые из истории и географии многих стран, ставятся в новые соответствия друг другу, приносят свои прежние содержания в новые контексты и сращиваются, в конечном счёте, в новое целое. Для Качалина принципиально пересекать (упразднять?) границы и соединять разрывы.
Эклектика? – Безусловно. Эклектика культуры поздней и усталой, «начитанной», перегруженной знаниями и памятью об иных культурах и о собственных предыдущих состояниях? – Несомненно. Однако эклектика парадоксальным образом цельная, то есть – пронизанная общими, сквозными мотивами, настойчиво повторяющимися образами, знаками духовной реальности – не целыми ли мифологемами? – которые все в родстве друг с другом, во всяком случае – во взаимотяготении: сна, снега, льда, мёда, слепоты, танца, льва, огня, света, солнца…. И на удивление естественная: все её, из разных краёв пришедшие, детали объемлются одним чувством. (И таким образом – работают на одну задачу.) Культура-то поздняя и усталая, но вот чувство, которое все эти элементы удерживает в новой цельности, – сильное, витальное, первичное.
Можно было бы сказать, что речь идёт о выстраивании мифологии «персональной», однако это будет не совсем точно. При всей своей несомненной индивидуальности, эта система представлений не так уж привязана к персоне автора в его эмпирических обстоятельствах – хотя охотно заимствует из этих обстоятельств отдельные подробности: бытовые, повседневные, чувственные – и доращивает их до символов.
По субботам в дверь названивают стекольщики, приглянулся им мой книжный балкон,
занесённый снегом – он дорог мне, и не нужен треклятый ремонт среди февральских икон,
мне и новая дверь не нужна. За меня им что-то отвечает жена.
Тихо падает снег, он мне единственный корень и брат,
даровит, беззвучен, неизвестно чем жив, богат.
Из индивидуальности автора-героя, из его личной московской топографии (Ясенево, Полянка, Донской монастырь…), из единственности и даже сиюминутности его обстоятельств, используя их как материал, здесь растёт универсальность. Он участвует в своём демиургическом действе не столько как личность с биографическими координатами, сколько как мирообразующий элемент, в активном взаимодействии с природными стихиями. Едва ли не прежде всего этот первочеловек участвует в миротворении собственным телом, и миротворение происходит сию минуту и всегда.
Эта тонкая плоть, раскинутая в пространстве,
свысока смотрящая, нежная, уязвимая без предела,
гром она или нет – кто знает, начал и концов не сыщешь,
буквами неуловима, словами невыразима…
Первое, что тут приходит на ум – Пуруша, существо, из которого, согласно индуистским представлениям, была сотворена Вселенная. Но этот ход воображения неверен.
Хотя бы уже потому, что Пуруша пассивен, равнодушен и представляет собой духовное начало, а первочеловек Качалина – демиургически активен и при этом безусловно телесен, и отношение его к миру – заинтересованное и страстное. Всё сущее вырастает из его тела – мирообразующего, соразмерного всему миру, из его чувств («Жёсткий, прекрасный сон, не вычерпать слёз из сердца – / Сердце мечетью стало, и глинобитный, / Новый шевелится храм…») и превращается в него обратно. Это зрячее, всечувствующее тело находится притом, кажется, одновременно повсюду, соединяют собою разные части ойкумены – и даже разные времена. Герой вспоминает, как личный чувственный опыт:
Когда возводили Стоунхендж, я был там, и я не спорю.
Камни возили с Альбы – они шли сами в грязи.
Кромлех стоит, как охотник, открытый свету и горю…
Если и не бессмертие, то, во всяком случае, всевременье, чрезвычайно «расширенная» жизнь (один из рецензентов книги, Василий Бородин, сказал, что время стихов Качалина – «расширенная современность», и этот термин мне хочется у него частично заимствовать) свойственна не только «лирическому герою» этих стихов, но всем их персонажам. Так, например, китайский философ и писатель Лю Цзунъюань (если, конечно, «Ли Цзунъюань» у Качалина – это он), живший в VIII-IX веке (773-819), видит во сне, как «белый медведь / данью ложится, скалится у Чингисхановых ног», что никак не могло случиться раньше XII века – времени жизни Чингис-хана (1155/62-1227). Взгляд всех вовлечённых в это миро(пре)образующее действо существ и сущностей – все, кстати, одушевлены и все живы – пересекает сразу и времена, и пространства. «Плывущий к югу, сверкающий Ли Цзунъюань», оставаясь в своём Китае, «снится снежинке, слетающей через рязанский тын» сколько-то веков спустя, а «взгляд королей изувеченных меровингов из нотр-дам <…> ведёт в пустыню, где между сфинксовых лап / лежат два камня…» Герои качалинского гипертекста переговариваются через времена и пространства, не смущаясь культурными, цивилизационными и иными различиями: Эгерия, паломница из галлов или галлеков, создавшая в IV веке по Рождестве Христове старейшее из написанных женщинами прозаических произведений «Itinerarium Egeriae», «шепчет Помпилию» (надо полагать, Нуме Помпилию, второму царю Рима, прямо в его VIII-VII века до Рождества Христова?) «любовную песнь к Ригведе», исторической Эгерии вряд ли известной. Может быть, в каком-то смысле все они, всё оно составляют одно существо – и даже не ведают о своей дифференцированности. «Воск от войска неотличим в тесном улье, залитом медью, / волчий вой в ущелье – от вопля созвездий…»
(Интересно, насколько важно для понимания читателем происходящего знание того, какая реальность стоит за всеми упоминаемыми именами? – Сборник обходится без единого комментария – это и наводит на мысль о том, что такое знание совсем не принципиально: достаточно, чтобы всё упоминаемое работало на чувство взаимосоотнесённости разного и сколь угодно удалённого.)
Эта расширенная жизнь, соединяющая все времена, пространства и существа, включает в себя и смерть на правах одной из своих форм: «и когда я лежу в гробу, как в колыбели, / воскресает на небе облачком – свинка Сима, умершая сегодня утром». Мир же неотделим от всеприсутствующего одушевлённого тела – и даже не слишком от него отличим: мир весь живой, чувствительный, восприимчивый, уязвимый (глинобитный храм шевелится, камни идут сами, кромлех открыт не только свету, но и горю). По крайней мере, граница между человеком и миром, едва обозначившись, – стремительно стирается.
Так, но почему всё-таки «письмо»? – если не забывать о том, что название книги даёт к ней ключ. А потому, что – письмо и есть, и даже внятно адресованное, и адресат прямо указан: Самарянка, женщина, и послание к ней – любовное. Второй пласт книги – лирика.
А в ней – совсем другой тип зрения, даже как будто совсем другой язык: точное, предметное описание видимого мира. Конкретнее некуда. Практически дневник, хроника реальных событий. Мир уже не плавится под творящими пальцами – он твердеет, обретает осязаемые границы, даже загрубевает, – хотя (или – как раз вследствие того, что?) речь идёт о событиях счастливейших. Когда во втором, московском акте «Трамвая в трёх актах», трамвай везёт героев «от почтамта до университета», москвичу сразу ясно, что это 39-й; а в следующем акте, киевском, перед изумлёнными читательскими глазами разворачивается детальная картина, почти каталог проезжаемого трамваем маршрута:
Туда, через Днепр,
где острова с каруселями,
где режут воду катера и где бобры подгрызают ивы,
где много голых тел и мельница смысла их мелет,
а майское солнце жжёт,
туда, на необозримый правый берег,
в который забиты сто тысяч свай,
чтоб он не рухнул в глубину, с куполами, пещерами
и непобедимой победой, с вечным своим огнём.
На Подол и обратно – домой, домой.
И это – вторая сила, образующая эти тексты, второй полюс, напряжение между которыми удерживает их в едином поле: стремление – отказавшись от демиургической позиции, от упразднения границ, стереть единственную границу: между собой и любимой, принадлежать ей – а значит, и миру со всеми его подробностями. Но это, кажется, именно то, что здесь оказывается наиболее трудным. Почти невозможным – достижимым разве что ценой жизни.
я умер и
– и ожил в тебе
тогда увидел мир




