Борис Кутенков (род. 5 июня 1989) — русский поэт, литературный критик, культуртрегер, обозреватель. Редактор отдела критики и публицистики журнала «Формаслов», соредактор портала «Полутона».
Родился и живёт в Москве. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького (2011), учился в аспирантуре (тема диссертации — «Творчество поэтов Бориса Рыжего и Дениса Новикова в контексте русской лирики XX века»).
Соредактор антологии «Уйти. Остаться. Жить», посвящённой безвременно ушедшим поэтам XX и начала XXI века (первые два тома — 2016 и 2019, издательство «ЛитГОСТ»; третий том — 2023, издательство «Выргород»). Cтоял у истоков электронного журнала Лиterraтура, в котором работал редактором отделов критики и публицистики с июня 2014 по январь 2018 года.
Организатор литературно-критического проекта «Полёт разборов», посвящённого современной поэзии и ежемесячно проходящего на московских площадках и в Zoom.
Автор пяти книг стихотворений, среди которых «Неразрешённые вещи» (издательство Eudokia, 2014), «решето. тишина. решено» (издательство «ЛитГОСТ», 2018) и «память so true» (издательство «Формаслов», 2021), а также книги эссеистики «25 писем о русской поэзии» (издательство «Синяя гора», 2024).
Собор памяти
Борис Гриненко. Признание в любви. — М.: ЭКСМО, 2024. — 480 с.
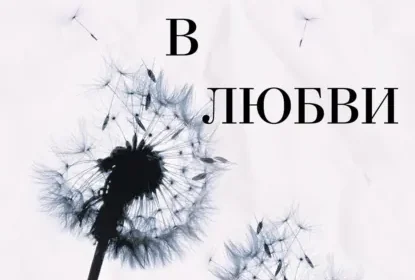 Критики непременно скажут, что автобиографический роман Бориса Гриненко «Признание в любви», посвящённый уходу близкого человека, встраивается в популярный сегодня тренд «литературы травмы». Это распространённое нынче определение, как и любая попытка обозначения тренда и «-изма», — своеобразный ярлык; вернее было бы сказать, что роман находится внутри традиции. Из современных примеров в первую очередь вспоминается документальная проза Анны Старобинец «Посмотри на него», которая несколько лет назад вызвала множество дискуссий не столько литературного, сколько этического свойства. Эта довольно нехитрая по своему устройству, но наполненная болевым жизненным материалом вещь заставила пересмотреть границы между этикой и эстетикой: думаю, поклонники книги не согласились бы с формулой Бродского «эстетика — мать этики». Проза Старобинец, наконец, проблематизировала сложные отношения между документальной и художественной сторонами реальности. Схожим образом побудила говорить о них и «Рана» Оксаны Васякиной — нон-фикшн о смерти матери, с которым роман Бориса Гриненко «Признание в любви» сближает тема смерти родственника и её автобиографическое переживание. Приходит на память также проза Веры Поглазовой, вошедшая в книгу «Игорь Поглазов. Я ни о чём не жалею» (Минск, 2024) и написанная как дань памяти безвременно погибшему сыну; Игорь (1966 — 1980) — герой книги Светланы Алексиевич «Зачарованные смертью». Нелишним будет вспомнить даже книгу Дарьи Донцовой «Я очень хочу жить. Мой личный опыт», посвящённую борьбе с раком, — в произведении Бориса Гриненко, как и у Донцовой, прослеживается сложный путь, связанный с приходом в жизнь онкологического заболевания, и изменение жизни под влиянием этой беды. Заканчивается всё отнюдь не так позитивно, как в книге и в реальной биографии Донцовой, — но, как любая документальная литература подобного свойства, роман Гриненко имеет не только художественное, но и прагматическое значение: здесь описаны попытки борьбы с болезнью, присутствуют советы врачей после ухода близкого человека и, наконец, предстаёт терапевтический смысл писательских занятий, который помогает победить горе.
Критики непременно скажут, что автобиографический роман Бориса Гриненко «Признание в любви», посвящённый уходу близкого человека, встраивается в популярный сегодня тренд «литературы травмы». Это распространённое нынче определение, как и любая попытка обозначения тренда и «-изма», — своеобразный ярлык; вернее было бы сказать, что роман находится внутри традиции. Из современных примеров в первую очередь вспоминается документальная проза Анны Старобинец «Посмотри на него», которая несколько лет назад вызвала множество дискуссий не столько литературного, сколько этического свойства. Эта довольно нехитрая по своему устройству, но наполненная болевым жизненным материалом вещь заставила пересмотреть границы между этикой и эстетикой: думаю, поклонники книги не согласились бы с формулой Бродского «эстетика — мать этики». Проза Старобинец, наконец, проблематизировала сложные отношения между документальной и художественной сторонами реальности. Схожим образом побудила говорить о них и «Рана» Оксаны Васякиной — нон-фикшн о смерти матери, с которым роман Бориса Гриненко «Признание в любви» сближает тема смерти родственника и её автобиографическое переживание. Приходит на память также проза Веры Поглазовой, вошедшая в книгу «Игорь Поглазов. Я ни о чём не жалею» (Минск, 2024) и написанная как дань памяти безвременно погибшему сыну; Игорь (1966 — 1980) — герой книги Светланы Алексиевич «Зачарованные смертью». Нелишним будет вспомнить даже книгу Дарьи Донцовой «Я очень хочу жить. Мой личный опыт», посвящённую борьбе с раком, — в произведении Бориса Гриненко, как и у Донцовой, прослеживается сложный путь, связанный с приходом в жизнь онкологического заболевания, и изменение жизни под влиянием этой беды. Заканчивается всё отнюдь не так позитивно, как в книге и в реальной биографии Донцовой, — но, как любая документальная литература подобного свойства, роман Гриненко имеет не только художественное, но и прагматическое значение: здесь описаны попытки борьбы с болезнью, присутствуют советы врачей после ухода близкого человека и, наконец, предстаёт терапевтический смысл писательских занятий, который помогает победить горе.
К «Признанию в любви», как и ко всем перечисленным произведениям (их список можно множить), не относятся слова Уайльда о том, что произведение искусства живёт только собственными задачами; вопросы этики и прагматики здесь оказываются заострены. Один из ключевых лейтмотивов книги Бориса Гриненко — изменение внутренних установок человека, который переживает болезнь любимого человека; время катится не так, как раньше, обычные вещи становятся не теми, что в прошлой жизни: «Словно при замедленной съёмке успеваю заметить, как от упавших на асфальт капель начинают подниматься грязные фонтанчики брызг. А как они будут опускаться, увидеть не дают. Машина наклоняется в глубокий кювет мордой вниз, упирается в противоположную стенку и встаёт на дыбы. Вместо того чтобы испугаться, я обрадовался: хорошо, что Иру не взял. В следующее мгновение машина опрокинулась на крышу. И всё исчезло…».
Думаю, хотя бы ради этого «вместо того чтобы испугаться» и подобных моментов переоценки ценностей эту вещь стоит прочитать и внутренне проанализировать. Даже вне отношения к словесной стороне.
Впрочем, что касается этой словесной стороны – она важна (более, конечно, для читателя, чем для профессионала). О взаимоотношениях биографии и художественности очень точно сказал когда-то критик Сергей Костырко в интервью порталу Textura в ответ на мой вопрос о «диссонансе между неизбежной описательной точностью мемуаристики — и художественным отстранением, свойственным творчеству». Сергей Павлович ответил так: «…при съёмке я, скажем, чуть наклоняю камеру, и сюжет сразу же получает некую дополнительную оркестровку, или, пользуясь Зумом, я отсекаю в кадре всё, что мне кажется лишним, оставляя только тот мотив, который и определяет для меня характер пейзажа. То есть так или иначе, но фотоаппарат может быть не только инструментом воссоздания увиденного (снимок на память), но и инструментом для создания образа того, что вы видите»[1].
Сегодня эта формулировка вопроса кажется мне наивной — и в то же время взаимоотношения между «реальным» и словесным, отображённым в литературе, переданы Костырко весьма точно; его ответ всё время заставляет меня мысленно возвращаться к той беседе. Примерно тогда же в ответ на мой вопрос о «Зачарованных смертью» Светланы Алексиевич Вера Поглазова (у которой белорусская журналистка брала интервью о сыне) ответила, что та передала все факты верно, но изменила интонацию, сделала свою собеседницу более сентиментальной. Эти слова тоже многое сказали мне о преображении реальности — том самом «наклоне камеры» при выстраивании структуры документальной прозы, что и делает соответствующую литературу предметом автофикшна — по сути, гибридного жанра, — а не просто описанием событийного ряда.
Как обстоит дело у Гриненко с органичностью подобного гибрида? Вот описание «дневального», который ежедневно держит свой пост у кабинета врача: «Профессор появляется утром в одно и то же время. Для него я, видимо, бессменный дневальный на посту у кабинета с единственным вопросом: ”Когда операция?” В его обязанность входит поздороваться. Для вежливости добавить: ”Потом”. После его операций я там же. Не принято, но преграждаю дорогу. Обходит меня, оборачивается: ”Ждите”. Не могу слышать навязчивое слово, оно уже набило оскомину: ”Мы месяц ждём”. Смотрит в сторону, не хочет говорить о том, что ему не нравится, о том, что не так сделал. Появляется другой профессор, обсуждают своё и уходят. Опускаюсь в коридоре на ещё более вежливый диван — не скрипит…».
В одном отрывке — и рефлексия над навязчивостью словесных повторов (выдающая, извините за повтор, человека слова), и нужная здесь скупая глагольная протокольность, и перебивающая её сила иронии («вежливый диван»), которая прерывает протокольную инерцию повествования. В то же время нельзя не отметить ассоциативную нагруженность слова «скрипит», как бы отсылающую к внутреннему скрипению, недовольству (ср. у Гандлевского: «Скрипит? А ты лоскут газеты / Сложи в старательный квадрат…»). В таких моментах проявляется не только документальное, но и писательское мастерство; но, думается, потенциал Бориса Гриненко в этом смысле ещё не до конца реализован. Роман «Признание в любви» выдаёт человека начитанного и ориентирующегося в различных аспектах мировой культуры; в финале также говорится, что герой, желающий написать о смерти жены, отправился на литературные онлайн-курсы для понимания композиции и основы образа. В этом смысле можно считать, что писательская дорога автора только начинается.
Написание этого текста для Бориса Гриненко — внутренний долг, своеобразный этический поступок, и эта спасительная сила внутреннего долженствования передаётся читателю: «…написать о нашей любви хотела Ира — не дали. Я во всём ей помогал. Выходит, что и по этой причине должен написать я. Получится ли рассказать о жизни, о её борьбе за эту жизнь? Постараюсь. <…> Здесь всё зависит от меня. Но откуда возьмутся звенящие слова, если не писал я ничего, кроме околонаучных текстов? Да и то давно».
Для автора околонаучных текстов получается неплохо — а заявленное в тексте стремление к литературному развитию, видимо, способно дать ещё более ощутимые плоды. «Признание в любви» читается легко — и не отмечено занудством, которое свойственно дилетантствующим авторам подобных нон-фикшнов. Книга ставит перед нами ещё одну проблему (с которой я, например, столкнулся, преподавая литературный процесс пожилой аудитории): конфликт между существованием «семейного» автобиографического нарратива, значимого только для друзей и близких, и интересами литературы. Борис Гриненко стремится в сторону литературы, в отличие от 90% взявшихся за перо после ухода родственника, и это ценно уже само по себе.
К теме внутреннего долга автор возвращается не единожды — например, на одной из страниц описана легенда о неандертальце, подарившем любимой женщине луну: «Как настоящий мужчина, он не мог вернуться, не выполнив того, что обещал. За горизонтом открывался новый горизонт. За ним — ещё и ещё. И нет им конца… а у жизни был».
Не люблю слово «пронзительный» (штамп), но об этом эпизоде иначе не скажешь. В то же время заметно, что сентиментальность здесь — как и во всем романе — дозирована удачно, без каких-либо эмоциональных перегибов. Именно эпизоды с отсылками к мировой культуре кажутся самыми удачными — в них проявляется ассоциативная сила, которая позволяет провести параллель между будущим уходом героини (о котором уже знает или догадывается читатель) и движением повествования «здесь и сейчас»: к примеру, в тех же сценах посещения туристических мест. На эти моменты автору стоит обратить особое внимание, если, конечно, он решит продолжить свои прозаические опыты.
Возможно, именно в силу внутреннего долженствования вещь Бориса Гриненко выдержана в жанре хронологически последовательного дневника — и, безусловно, эта поэтапность поможет тем, кто сталкивался с подобной трагедией, сопоставить её реалии со своими переживаниями. Несомненно, кому-то будет тяжело её читать (но тут вспоминается знакомая девочка, которую пригласили на фильм о Чернобыле, и она ответила, что не смотрит «такой депрессняк». Это к тому, что разговоры о «чернушности» или «депрессивности» всё-таки не применимы в качестве критериев литературы — хоть документальной, хоть художественной). Побочным эффектом аутотерапевтической практики, важной автору, становится подробное, хронологизированное описание. Некоторая затянутость, подробность здесь предстаёт дискуссионным моментом: с одной стороны, никуда не отбросить этот психотерапевтический эффект, который и позволяет автору пережить трагедию, он требует как можно более детального описания происходящего. С другой — проговаривание всего не помогает литературной стороне дела: порой не хватает сжатости, напряжённости Светланы Алексиевич, её умения найти соотношение между реалистичностью — и пресловутыми интересами литературы (что такое они, эти интересы, разумеется, ответить не так просто; но для пытливого профессионального читателя уход от них, как и приближение к ним, чувствуются остро). Впрочем, примеры того, где эта литературность – не равная литературщине, – даёт о себе знать, мы уже привели. И этих примеров довольно много. Разговор о них можно продолжать.
При чтении нередко ощущаются эти «родимые пятна» писательства (или ослиные уши, или можно заменить «писательство» на «талант» — во всех этих случаях смысл будет верным). Иначе бы о романе «Признание в любви» и писать не стоило.
Ассоциативным образом перекликается со сценой смерти эпизод путешествия в Грецию: «Харон забирает нас, отталкивается длинным шестом. Чем платить? Оболов не нашли; Греция в зоне евро — должен взять. Перекреститься, что ли? Своды высокие настолько, насколько нам, смертным, нужно, чтобы река петляла и напоминала прошедшую жизнь. Изящные колонны сталактитов и сталагмитов отражают свет разноцветных прожекторов. На воде — подземная радуга, она отвлекает от мрачных мыслей и завораживает…». Поэзия становится одним из ненавязчивых спутников сюжета — в одной из глав говорится о широком понимании её сути: «Сочетание высокой поэзии о любви и прозы — простого удовольствия жизни. Может быть, в этом тоже есть поэзия?», где-то встречаются подходящие сюжету вставки из Ахматовой, Цветаевой и др. Думается, будущий путь Бориса Гриненко — в том, чтобы работать с ассоциативным рядом тонко и менее прямолинейно. Например, описание путешествия в Японию, красота культуры и пейзажей этой страны явно контрастируют с грубым больничным бытом, и в этом — вне зависимости от того, присутствовал подобный замысел у автора или нет, — заметна сила «полярностей».
Есть, разумеется, и откровенно банальные моменты — здесь уже речь не о блоковском «чтобы от истины ходячей всем стало больно и светло», но о самоочевидности как она есть. «Жизнь — это именно сегодня, завтра может и не наступить. Никто в это не хочет верить, мы тоже не верили. Может быть, они поймут, как живут, что внимание к любимому человеку никогда не бывает лишним, его всегда не хватает. Задумаются, чтобы не жалеть ни о чём в последний час. Это сожаление будет самым горьким, не нужно с ним уходить. Ещё Марк Аврелий убеждал, что жить каждый день нужно так, как если бы он был последним».
Я написал «разумеется», поскольку вряд ли стоит ждать чего-то иного от монолога, написанного по горячим следам и полного неразрешённых переживаний. Думается, вопрос об этой процитированной вставке дискуссионен: с одной стороны, такие «банальности» мы проговариваем внутри себя, иногда это необходимо, и от этого никуда не деться. Критик Наталья Иванова как-то написала о прозе Александры Марининой колкое: «Утверждая банальности, пытается прививать добрые чувства». Но, с другой, — стоят ли эти добрые чувства и этически безупречные напоминания того, чтобы вставлять их в произведение? Является ли, к примеру, это известие о любви к ближнему самоценностью, — или стоило бы облечь его именно в литературную упаковку (но такое обычно получается не искусственно, не стоило бы стремиться в этом к намеренному парадоксу)? Вопросы снова возвращают к взаимоотношениям этики и эстетики, и однозначного ответа на них у меня нет.
«Месяца два назад начал просить Ириных друзей поделиться на бумаге своими воспоминаниями, выделил им главу — «Камни памяти». На вопрос: «Почему так назвал?» — отвечал притчей о стройке. Там мудрец спрашивал рабочих: «Что делаете?» Первый возмутился: «Не видишь, камни вожу». Второй вздохнул: «Зарабатываю на хлеб для жены и детей». Третий ответил с гордостью: «Я строю Шартрский собор». Вот я и уговаривал: — Принесите слова для собора памяти. Он должен сохранить тепло отношений, чтобы каждый, кто его посетит, смотрел на мир с улыбкой доброй и понимающей, как у Иры…».
Этот фрагмент в книге один из ключевых – именно метафора из него дала название нашей рецензии.
Собор памяти Бориса Гриненко допускает множество вариантов прочтения. Он доказывает, что литературный, иерархический способ отношения к литературе (который многие критики ассоциируют именно с чисто «словесной» стороной дела) — не единственный. Анализировать роман «Признание в любви» можно в самых разных аспектах, и каждый из них может оказаться плодотворным. Ну а лично мне хотелось бы, чтобы автор всё же не ограничился этой документальной прозой — пусть для него это выполненный долг и своеобразный этический подвиг. Но явное мастерство, которое находится в процессе становления, вкупе с эрудицией и жизненным опытом, способно вывести автора за эти пределы. Будем ждать от автора новый роман.
[1] https://textura.club/sergej-kostyrko-intervyu/



