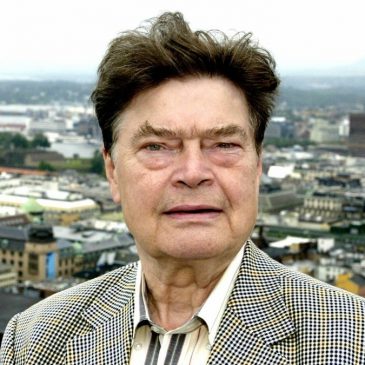В издательстве «ПоРог» выходит книга Бориса Панкина «По обе стороны медали», включившая эссе и заметки разных лет об искусстве и политике. «Textura» представляет избранные главы из книги. В первой части – воспоминания о политиках и государственных деятелях, встречах с Хрущёвым, Брежневым, Андроповым Ельциным. Во второй (продолжение следует) – послесловие к дневникам Алексея Кондратовича (1920 – 1984), заместителя главного редактора журнала «Новый мир» при Твардовском, о житье-бытье советских изданий и о встречах с Юрием Трифоновым.
Из книги «По обе стороны медали». Часть I
ПРЕЗИДЕНТЫ И ГЕНСЕКИ
Серьёзы и курьёзы
Доклад на международной конференции в РАН 2016
Название моего выступления сегодня один к одному взято из заголовков глав моей книги «Пресловутая эпоха в лицах и масках, событиях и казусах», которая увидела свет в 2002 году и вышла вторым изданием в издательстве «Центрполиграф»: «Один тиран, четыре генсека и два президента».
Сам же я тогда отталкивался от известной фразы Пушкина, который писал своей жене в 1834 году: «Видел я трёх царей: первый повелел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку, второй меня не жаловал, третий хоть и упёк меня в камер-пажи на старости лет, но променять его на четвёртого не желаю…»
Замечу, что до сих пор каждый, кому доводится взять в руки эту мою книгу в первый раз, сразу же спрашивает не о лицах, а о масках. И не о событиях, а о казусах. Это и подтолкнуло меня сегодня, после двух дней серьёзных речей о событиях и лицах параллельной истории двух наших стран, России и США, сфокусироваться именно на казусах, или, если хотите, курьёзах, которые к отражению реальности имеют не меньшее отношение, чем события и лица. Пусть и в гротесковой форме. Как зеркала смеха.
Обращаясь к властителям, я имею в виду только тех, с кем так или иначе лично соприкасался. И только со Сталиным, тираном, для краткости, контакт был лишь визуальный: я дважды видел его на трибуне Мавзолея, когда в колонне студентов и профессоров МГУ проходил по Красной площади в дни годовщины Октябрьской революции.
Чекисты, которые были густо расставлены между колоннами, подгоняли: скорее, скорее, не задерживайтесь.
А мне хотелось замедлить шаг и вглядеться если не в лицо, то хотя бы в фигуру того, кого моя бабушка, из раскулаченной в 1930 году семьи, называла аспидом рода человеческого, когда я второклассником с красным пионерским галстуком на шее приезжал к старикам в хуторок под городом Сердобском Пензенской области на летние школьные каникулы. Её и последовавшая война с Гитлером не примирила со Сталиным, и об этих её тирадах я вспомнил и тогда, когда пятикурсником уже услышал по радио о смерти вождя народов, и на митинге в актовом зале МГУ корил себя за то, что из моих глаз не текли слёзы, как у многих вокруг. Ну не текли, и всё.
С генсеками Хрущёвым, Брежневым, Черненко, Андроповым, Горбачёвым соприкасался непосредственно, чем дальше, тем плотнее.
Так же, как и с двумя президентами – первым и последним советским, Горбачёвым, и российским, Ельциным.
Перечисляя в своей «Пресловутой эпохе» генсеков и президентов, с которыми довелось соприкасаться, я имел в виду только лидеров своей страны, но теперь должен к указанным российским политическим и государственным фигурам добавить Ричарда Никсона и Джорджа Буша-старшего.
Вот с Ричарда Никсона я и начну.
Первый в истории американский президент, который нанёс официальный визит в Москву. Визит этот длился с 22 по 30 мая 1972 года. Практически десять дней. Ниже увидим, что госвизит Хрущёва в Австрию тоже длился больше недели. Такие тогда бытовали сроки, непредставимые в наши дни.
В заключение программы визита – приём в Георгиевском зале Кремля. Брежнев и Никсон медленно движутся вдоль богато накрытых столов и выстроившихся шеренгами советских и зарубежных гостей.
Я стою рядом с космонавтами Алексеем Леоновым и Андрияном Николаевым. Брежнев замечает их и подводит к ним высокого гостя. Меня поражает напряжённо-отсутствующий вид Никсона, машинального кивающего головой и пожимающего столь же механически руки героев космоса, которых в ту пору можно было пересчитать по пальцам.
В чём дело?
Вспомним же, что визит американского высокого гостя чуть было не отменили в последнюю минуту ввиду начавшихся ковровых бомбардировок Ханоя и Хайфона.
За отмену стоял премьер Косыгин. Глава Верховного совета СССР Подгорный, которого по традиции называли президентом, на переговорах вслух именовал американцев кровавыми убийцами.
Под угрозой оказалось подписание важнейших двусторонних актов, среди которых ключевым было Временное соглашение о некоторых мерах в области ограничения развития стратегических наступательных вооружений. И вот всё это уже позади. Неизбежный компромисс был достигнут, историческая программа полностью выполнена. Уже не надо так жёстко контролировать каждый жест, каждое слово, держать лицо. И американский президент отключается, уходит в себя.
Вот когда я впервые остро осознал, что и властители тоже люди. Со всеми им присущими слабостями и силой. В дальнейшем не раз ещё пришлось в этом убедиться.
В таком состоянии, например, – скажу забегая вперёд, – был Брежнев после мучительных круглосуточных переговоров и подписания специального протокола с Дубчеком и его командой в Москве в конце августа 1968 года. После чего рыцари Пражской весны из политических заложников, которым грозила в СССР тюрьма, вновь превратились, пускай и ненадолго, в высшее партийное чехословацкое руководство. Я видел это в документальной ленте по следам события. Брежнев был весь как выжатая губка. И нетрудно было себе представить, что бы с ним было, если бы переговоры не увенчались успехом. В его понимании, естественно.
Пожалуй, и у Ельцина можно было увидеть такое лицо, и ещё у Дубчека, когда он, председатель Национального собрания новой Чехословакии, рассказывал весною 1991 года в дружеской беседе мне, только что назначенному советскому послу, об этих переговорах и объяснял, чуть ли не оправдываясь, почему он подписал это соглашение: «Иначе пролилась бы кровь, большая кровь», – повторял он со слезами на глазах. Словно бы и самого себя в этом убеждая.
Александр Дубчек не был уже лидером страны в пору моих с ним контактов, не постесняюсь опять же назвать их дружескими, но это тот человек, который, будь он жив, и сегодня стоял бы на голову выше нынешних властителей многих, в том числе и ключевых стран.
Был ещё один американский президент, с которым у меня был контакт, и уже не со стороны глядя, как с Никсоном, а в непосредственном общении, в Нью-Йорке, в ходе ежегодной Генеральной Ассамблеи в октябре 1991 года и месяц спустя, на Мадридской международной конференции по Ближнему Востоку.
Международную конференцию по Ближнему Востоку в Мадриде в октябре 1991 года я называю «Последним саммитом Горбачёва». По завершении первого дня её работы в резиденции короля Испании Хуана Карлоса в экстремально узком составе участников состоялась встреча, которой не было в повестке дня. На этой встрече Король и Буш, а также тогдашний премьер-министр страны Гонсалес страстно, не сдерживая эмоций, выходя, так сказать, из берегов, убеждали Горбачёва не давать воли сепаратистам, будь то даже Ельцин, не допустить распада Советского Союза. Словом, покрепче держать вожжи в руках. Сегодня мало кто вспоминает и даже знает об этом, но тогда у меня появилось ощущение, что именно ради этой беседы Буш и прилетел прежде всего в Мадрид. Он ведь и в Киев летал с той же целью, за что украинские националисты обозвали его цыплёнком по-киевски. Наверное, по ассоциации с «ножками Буша».
Но обращусь к генсекам…
История с ботинком, которым Хрущёв то ли стучал, то ли не стучал по столу во время заседаний Генеральной Ассамблеи ООН 12 октября 1960 года во время обсуждения так называемого «венгерского вопроса», хорошо известна, всегда на слуху. Упоминалась и на этих наших заседаниях.
Я хочу рассказать другую историю, гораздо менее известную, но зато абсолютно достоверную. Я сам был её свидетелем, как и всего другого, повторюсь, о чём я сегодня рассказываю.
Дело было в конце недельного визита Никиты Сергеевича в Австрию в том же шестидесятом году, на стыке июня-июля. Мне эта пора памятна ещё и потому, что, пока я сопровождал в журналистском экипе Первого секретаря в его поездке по этой стране, у меня в Москве родилась дочь, известие о чём мне привёз прилетевший вместе с тестем Алексей Аджубей.
Итак, заключительный день визита. Прощальный обед. С австрийской стороны его даёт в честь высокого советского гостя вице-президент Бруно Питтерман. Он дарит Хрущёву новенькое охотничье ружьё, скорее всего винчестер, и тот, к изумлению собравшихся, направляет его на дарителя. Смерть социал-предателям. Вот так мы будем расправляться с холуями американского империализма.
Неудивительно, что после этого выкрика Никиты Сергеевича, объявленного позже шуткою, дальнейшая беседа состояла из обмена колючими репликами. Тем не менее, на следующий день в «Правде» и «Известиях» появились отчёты на полосу с развёрнутым изложением глубокомысленного диалога двух влиятельных персон. О винчестере в отчёте не упоминалось.
Но не всегда Хрущёв был так бесцеремонен с представителями страны-хозяйки. Помню, как в той же Австрии, при переезде на автомобилях из одного города в другой, Хрущёву захотелось остановиться и посидеть в каком- нибудь деревенском ресторане. Гаштете. Эскорт в целом был не такой громадный, как сегодня у первых лиц. Мы все, включая журналистов, удобно, в тесноте да не в обиде, расположились в уютных зальчиках, и я оказался за одним столом с главой охраны Хрущёва, генерал-лейтенантом Николаем Степановичем Захаровым, который, на зависть мне, вовсю, как тетерев на току, флиртовал с красивой длинноногой представительницей австрийских спецслужб. Во время одной из затянувшихся тирад к нему подошел его сотрудник и что-то прошептал на ухо. Генерал сначала отмахнулся, но через минуту всё-таки встал и, не извиняясь перед собеседницей, поспешил к выходу. Мы, журналисты, – за ним.
Оказалось, что форс-мажорная ситуация возникла потому, что Никите Сергеевичу захотелось подышать свежим воздухом, а за дверями ресторана к нему, оказавшемуся всего на несколько минут без присмотра охраны, подошла какая-то пара, почтенные мужчина и женщина, пенсионного на вид, то есть его, возраста, и между ними завязалась беседа, которая закончилась тем, что НС прижал по очереди незнакомцев к своей широкой груди и вынул из кармана обширный носовой платок, чтобы вытереть набежавшую слезу. Тут же рядом стояла его супруга, Нина Петровна, которая теребила мужа за рукав и повторяла, как бдительная советская жена, что неудобно, люди же смотрят.
Незнакомцы, как оказалось, были как раз знакомцами, из той дальней поры, когда, опасаясь сталинского произвола, они покинули Родину и стали политэмигрантами.
Как бы ни был высок пост и как бы ни свирепствовала, как нас уверяют, тайная полиция, комплекция и манеры Никиты Сергеевича всегда были темой шуток, весьма распространённых и порою злых. Их позволяли себе под теми или иными благовидными предлогами даже его коллеги. Свидетелем одной такой выходки стал и я. Случилось это в ходе инструктивного брифинга для руководителей московских СМИ, который в тот раз проводил Михаил Андреевич Суслов – Михаландрев, серый кардинал.
Произнеся в очередной раз тираду о необходимости с особым вниманием подходить к публикации текстов и особенно снимков руководящих деятелей, он взял из стопки лежащих перед ним газет одну и показал собравшимся первую полосу. Мы увидели фото Хрущёва, у которого одна шляпа прикрывала лысину, а другую, такую же, он держал в руках. Издержки ретуши. Перестарались.
– Это кто вам, – вопрошал серый кардинал, – первый секретарь ЦК КПСС или шут гороховый?
Ответа он, разумеется, не дождался.
С Леонидом Ильичом Брежневым я впервые соприкоснулся года через два после того, как он сменил свергнутого Хрущева. У нового Генсека появилась здравая идея повстречаться с руководством всесоюзного молодёжного союза – комсомола для краткости, – в состав которого входил и я как главный редактор «Комсомольской правды». Появилась у него эта здравая идея, видимо, спонтанно, поскольку нас всех, человек четырнадцать, разыскивали и собирали в спешке. Теперь, помня о более поздних пересечениях с Леонидом Ильичом, к которым ещё обращусь, я дивлюсь той харизме, которую он излучал, прохаживаясь, на сталинский манер взад и вперёд вдоль длинного стола, покрытого зелёным сукном, за которым мы все сидели: величественная, я бы сказал, но без вызова, уверенность в себе, чёткие, ясные сентенции относительно работы партии и комсомола с молодёжью. Особенно порадовал тезис, который, подумалось, он или его помощники позаимствовали у «Комсомолки»: «Хватит спекулировать на энтузиазме молодежи, пора кончать с палаточной романтикой…» То есть позаботься о нормальных условиях труда и жизни вступающего в мир поколения. И не в необозримом будущем, а сегодня, сейчас.
В дискурсе того времени это было поворотом на 180 градусов.
Как главного редактора главной молодёжной газеты, меня в ту пору приглашали готовить проекты речей Генсека по вопросам молодёжи. И я как спичрайтер не преминул при первом же удачном случае вставить этот его тезис ему в речь, чтобы он стал уже партийно-государственной директивой, за исполнением которой мы бы в «Комсомолке» ревностно надзирали.
На страницах газеты такое требование воспринималось как гуманное, но пожелание. Вылетев из уст главы государства, эти слова становились законом.
Забавна одна деталь: прежде чем представить Брежневу проект речи, сочинённый моей группой, помощник Брежнева Андрей Михайлович Александров-Агентов сочинил проект замечаний шефа по тексту, который тот ещё не читал, и обе бумаги дал на подпись шефу, подписавшему их без замечаний, после чего они были разосланы членам Политбюро и секретарям ЦК.
Прошёл добрый десяток лет, прежде чем я увидел Генсека, к тому времени уже и де-факто президента страны, так принято было называть Председателя Верховного Совета СССР, совсем в другом состоянии.
Незадолго до подписания Хельсинского Акта 1975 года страна наша присоединилась к Женевской конвенции об авторском праве, то есть взяла на себя одно из обязательств по так называемой Третьей, гуманитарной, корзине, в обмен на что Запад согласился признать нерушимость существовавших на ту пору геополитических и просто границ. Для регулирования вновь возникшей сферы международной деятельности – приобретения и уступки авторских прав – была создана общественная организация с министерскими полномочиями – Всесоюзное Агентство по авторским правам, председателем которой был выбран-назначен я.
Одним из объектов нашей активности стали выходившие один за другим книжки воспоминаний Леонида Ильича, к которым неожиданный, но желанный интерес проявили издатели на Западе, не говоря уж о Восточной Европе и Третьем мире. Право на издание этих работ на английском языке приобрёл издательский барон, магнат, тайкун Роберт Максвелл. Захватив с собой свежеизданные томики воспоминаний, а также сборник речей и статей генсека на английском, Роберт прилетел в Москву и выразил настоятельное желание лично вручить автору сигнальные экземпляры. Я позвонил Константину Устиновичу Черненко, который тогда был де-факто номер два в партийной иерархии. Он неожиданно легко согласился помочь, буркнув: «Привози его после обеда, попробую протолкнуть».
Мы ждали в приёмной на Старой площади всего минут пятнадцать. Брежнев поприветствовал нас и сел за свой письменный стол, на котором лежали изданные Максвеллом его книги в броских обложках.
– Вот, – сказал, Леонид Ильич, указав на эту стопку, – как ваши книги у нас издают.
Максвелл вздрогнул и недоумённо взглянул в мою сторону. Я отвёл глаза.
В состоявшемся далее обмене мнениями говорил больше Максвелл, Брежнев больше кивал. Во время одной из затянувшихся тирад гостя хозяин встал и пригласил нас подойти к его собственному фото – портрету на стене.
– Во-о! – сказал он и обвёл круглым жестом руки маршальский мундир, густо увешанный орденами и звёздами Героя.
Приём был закончен.
Кстати, гонорар Брежневу за издание его книг выплачивался на общих основаниях, то есть в высшей степени скромный. Получить его можно было в Агентстве либо в рублях, либо в так называемых сертификатах, за которые в специальной сети магазинов «Берёзка» можно было купить дефицит – дефисит, по Аркадию Райкину – то есть импортные продукты и напитки. Вот этими сертификатами и был выплачен первый гонорар автору №1. Черненко рассказал мне, что Леонид Ильич подержал их в руках и говорит: «А что я с этими картинками делать буду? Нет, пусть заплатят, что мне положено, рублями».
Обмен сертификатов на рубли и наоборот был предусмотрен правилами. Константин Устинович дал мне понять, что о рублях генеральный секретарь позаботился ради любимой дочери, Галины Леонидовны. Самому ему в этой его ипостаси вряд ли понадобилось хоть раз вынуть бумажник из кармана.
Последний раз я видел Брежнева в канун моего отъезда в Стокгольм в качестве вновь назначенного посла СССР в Швеции. Это снова был другой Брежнев. И был совершенно нормальный рабочий разговор о важности для нас развития отношений с этой страной-соседкой, где к власти только что вернулись социал-демократы во главе с Улофом Пальме.
– У меня сын там работал торгпредом, – заметил Л. И. ближе к окончанию беседы и, как бы завершая её, спросил: – Ну, что ты от меня хочешь, Борис Дмитриевич?
Когда я рассказывал об этой встрече моему другу, а тогда и начальнику, первому заместителю министра иностранных дел Анатолию Ковалёву, он особо поинтересовался, что же я попросил у Генсека.
– Попросил, чтобы он разрешил мне передать его личный привет Улофу Пальме, – ответил я.
И теперь я не удивляюсь, что Ковалёв посмотрел на меня как на идиота.
– Люди квартиру просят, дачу казённую – и получают, а ты….
С Андроповым, тет-а-тет, или, как говорил один мой знакомый, тете на тете, я виделся всего один раз, хотя по телефону приходилось говорить неоднократно. Он тогда только что был назначен секретарём ЦК КПСС, в связи с чем покинул пост председателя КГБ, и приглашал к себе для беседы одного за другим руководителей так называемых идеологических ведомств, к которым, наряду с Госкомиздатом, Гостелерадио, ТАССом и другими было причислено и ВААП.
Беседуя со мной, он выразил обеспокоенность тем, что в «толстых» журналах, к которым относился и «Новый мир» Твардовского, публикуется слишком много художественных произведений острой критической направленности. В результате происходит сгущение красок и представление о реальной действительности искажается.
– Нет, мы не против критики. Но пусть бы каждый журнал публиковал в год одну-две вещи такого толка, и достаточно. Мера была бы соблюдена. И в очернительстве никто бы не стал упрекать.
Ещё он сказал, что хорошо бы возобновить практику встречи с писателями на производстве, на заводах, в колхозах и совхозах. Ближе к жизни надо быть.
«Хорошо сохранился Юрий Владимирович», – думал я и
вспоминал разговоры с его сыном, моим добрым знакомым, мидовцем Игорем Андроповым, который сказал как-то отцу, ещё в бытность того главою всесильного КГБ: «Вы что же, не видите, что у вас под носом творится?» – «Всё видим, не только то, что под носом, но и в носу… Но поделать пока ничего не можем».
Я подумал тогда о такой странной особенности наших лидеров: когда признание и разоблачение тех или иных теневых явлений нашей действительности исходит от них, от власти – это здоровая критика и самокритика, которая приносит только пользу. Но когда к тем же явлениям обращаются создатели художественных произведений в области литературы, музыки, изобразительных искусств, это объявляется очернением действительности, клеветой на советскую власть и советских людей. Так было при Хрущёве, сравним хотя бы разоблачительную силу его доклада на ХХ съезде КПСС и романа Дудинцева «Не хлебом единым», вокруг которого развернулась памятная до сих пор обличительная кампания в СМИ и на разного рода казённых форумах. Я уж не говорю о знаменитом проходе Никиты Сергеевича по выставке изобразительных искусств в Манеже в 1962 году.
Так было и при Брежневе, который предпочитал просто не допускать те или иные произведения литературы, кино, искусства до обнародования. В ходу у творцов и чиновников было выражение: «положить на полку». И ещё – «писать в стол».
Моя встреча с Андроповым, который вскоре сменил Брежнева, неожиданно для меня закончилась его предложением уступать права на эти написанные «в стол» рукописи западным издателям. Мол, и авторов поощрим, и нашу публику защитим от дурного влияния.
Василий Аксёнов, примерно в ту пору эмигрировавший в Америку, как-то сказал: «К моим трудам в СССР относятся как к чёрной икре: для своих она недоступна, а на экспорт – пожалуйста».
С Ельциным я познакомился раньше, чем с Горбачёвым. Сначала это было в Стокгольме, в 1990-ом году, на седьмом году моей посольской миссии в стране Улофа Пальме и Астрид Линдгрен. Опальный партократ прилетел туда представить свою книгу, направленную против Горбачёва. Он тогда был депутатом Верховного Совета и даже председателем какого-то из парламентских комитетов. Дилемма для посла: с одной стороны, парламентарий высокого ранга и я по протоколу должен его встретить в аэропорту. С другой стороны, еретик. Сыграл мой писательский позыв. Я не мог упустить шанс познакомиться таким человеком. Но в аэропорту Арланда была такая масса журналистов, фото и телекамер, что я только и успел пожать Борису Николаевичу руку перед тем как его увели в отдельный зал, может быть и специально, подальше от глаз и ушей посла. Вид у Ельцина в тот час был почти такой же, как у Никсона в Георгиевском зале. Ответив рассеянно на моё приветствие, он послушно двинулся туда, куда его влекла журналистская волна, а я вернулся в посольство.
Стоит, пожалуй, добавить, что шведская пресса, которая, по словам крупного профессионального деятеля этой страны, никогда не может держать в голове больше одной вещи сразу, долго ещё обсуждала не столько тот блицвизит Ельцина, сколько приезд в аэропорт посла Панкина. Чем, мол, он руководствовался, смотрел вперёд? И что ему за это будет. Другими словами: дальновиден посол или безрассуден, бесшабашен?
Ни то и ни другое. Любопытство литератора перевесило.
Тем не менее, эта короткая встреча в аэропорту шведской столицы запомнилась будущему первому президенту России больше, чем я мог предположить. Рассказывая в книге «Дневник президента», как после августовского путча 1991 года они с Горбачёвым выбирали министра иностранных дел, Борис Николаевич называет меня «нашим послом в Швеции», хотя я ко времени выхода этой книги успел побывать и послом СССР в Чехословакии, и послом РФ в Великобритании, где обстоятельства службы снова и снова сводили нас.
В Праге это произошло вскоре после избрания Бориса Николаевича в ходе трёх голосований Председателем Верховного Совета РСФСР. Избранный за несколько месяцев до этого президентом новой Чехословакии Вацлав Гавел захотел познакомиться с Ельциным,в котором видел родственную бунтарскую душу, альтернативу начинавшему, по убеждению Гавела, окостеневать Горбачёву.
Но чувства чувствами, а протокол протоколом. Для всех, но не для Бориса Николаевича. Хотя приглашение, с оглядкой на Москву, ему было направлено от имени его чешского коллеги, то есть председателя парламента Чехии, одной из двух республик тогдашней Федерации, он, кроме Гавела, никого не хотел знать.
Сгладить неловкости попытался Александр Дубчек, тоже недавно избранный председателем Национального собрания, но всей ЧССР. На второй день визита он рано утром приехал на правительственную дачу, ставшую резиденцией гостя, знак особого, неформального расположения, чтобы позавтракать вместе. Мы втроём сидели за круглым столиком около часа, и почти всё это время Ельцин каменно молчал, а говорил, скрадывая неловкость, Дубчек. Да я в помощь ему подавал реплики, обращаясь то к одному, то к другому. (Кстати, сокурсники по ВПШ звали Дубчека Шаничка). Кончилось тем, что Ельцин неожиданно встал, бросил на стол салфетку и вышел.
– Борису Николаевичу надо переодеться к следующей встрече, – смущённо пробормотал подлетевший к столу российский шеф протокола. Мудрый Дубчек сделал вид, что не заметил неловкости, а Ельцин, которому я рискнул шутливо попенять, непонимающе пожал плечами. И я тогда спросил самого себя о невероятном: а отдаёт ли Борис Николаевич себе отчёт, что такое и кто такой Александр Дубчек?
Последний, меж тем, попросил меня сделать ещё одну попытку оставить его наедине с Ельциным. Десятиминутный тет-а-тет удалось устроить лишь в зале ВИП, куда Дубчек приехал опять-таки вопреки протоколу. Когда самолёт с Ельциным и всем его антуражем поднялся в воздух, я спросил у Дубчека, о чём он говорил с Ельциным.
– Я убеждал его не ссориться с Горбачёвым. Если будут держаться вот так, – он скрестил пальцы рук, – страна справится со всеми проблемами.
– И что он?
– Кивнул.
Дубчек, по-моему, был единственным из нового бархатно-революционного руководства Чехословакии, кто избежал самогипноза в контактах с российским гостем.
Через несколько месяцев произошёл августовский 91 года путч. Через три месяца после него – Беловежская Пуща. Горбачёв лишился своего поста, советский народ – своей страны. Ельцин взошёл на трон. Дубчек погиб в автомобильной катастрофе.
Эти три месяца в Москве между первым и вторым, как я называю Беловежскую Пущу, путчем, запомнились мне, тогда министру иностранных дел СССР, помимо прочего, фразой, произнесённой Ельциным с трибуны Верховного Совета РСФСР: «Союзный МИД надо сократить в 10 раз». Её вслед за Ельциным произнёс на пресс-конференции Козырев, тогда министр РСФСР. Я в это время вместе с Горбачёвым был в Мадриде, на международной конференции по Ближнему Востоку, где впервые удалось усадить за стол переговоров арабов и евреев.
Меня попросил об интервью известный тогда журналист-международник Фарид Сельфульмулюков. Я был уверен, что речь пойдёт об итогах конференции. Но Фарид спросил о тираде Ельцина.
– Знаешь, – сказал я ему, – если ты встретишь человека, с которым давно не встречался, и он скажет: «Не видел тебя тысячу лет», ты же не воспримешь это всерьёз, буквально?!
Но выяснилось, что Ельцин с Козыревым понимали это именно буквально.
И первое, что сказал мне мой первый заместитель Владимир Петровский, который встречал меня по возвращении из Мадрида в ВИП-аэропорту Внуково-2, было:
– Ельцин отключил (снял с) от финансирования все союзные ведомства, включая нас, то есть МИД СССР.
Да, было такое. Взяв на себя бразды правления страной, в том числе и финансами, во время августовских трёх дней 1991 года, Ельцин так и оставил их за собой.
– Обращались к Горбачёву, но он сказал, звоните Ельцину, – закончил печальный свой рассказ Петровский.
Я так и сделал. Ельцин словно бы ожидал моего звонка.
– Было, было, – пробурчал он. – Но с МИДом это Геращенко (председатель Центробанка) поторопился. Я скажу, чтобы отменил. – И после короткой паузы: – Но вообще-то ты имей в виду. Это сигнал.
Запомнилась ещё фраза, которой Ельцин посчитал нужным подбодрить меня, когда, оставив пост министра иностранных дел СССР, я собирался в Лондон, послом в Великобритании.
– Шеварднадзя есть Шеварднадзя, – сказал мне Ельцин, адресуясь к моему преемнику на час.
Впереди была третья посольская миссия, где судьба снова свела меня с Борисом Николаевичем. Он – уже в вожделенном положении первого лица, первого президента нового государства, Российской Федерации – посетил Соединённое Королевство дважды.
Первый раз – в ноябре 1992 года по пути в Нью-Йорк, на Генеральную Ассамблею ООН. Визит был рабочий. Второй раз он прилетел через несколько месяцев уже с официальным визитом и, соответственно, был принят с большей помпой.
На завтраке, данном от имени Королевы, он сидел по правую руку Её Величества, я, как посол, по левую, так что хорошо слышал разговор, вернее, обмен репликами между ними, через переводчиков, которые стояли за их креслами. Королева, рассказывая о стране, о государственном устройстве своего королевства, упомянула как само собой разумеющееся, что реальной власти она по конституции, собственно говоря, не имеет. Царствует, но не правит.
Ельцин категорически запротестовал.
– Ну нет, – сказал он, знакомо повышая голос, в котором прозвучала направленная непонятно на кого ярость: – Мы с Вашим величеством первые лица. Вы – Королева, Я – Президент, и никто…
На Даунинг-стрит, 10, обстановка была непринуждённее. Сторонам предстояло подписать соглашение о выделении Англией России многомиллионного – в фунтах – кредита. В приложении к основному документу фигурировал ряд крупных хозяйственно-экономических объектов, между которыми предстояло разделить эти немалые миллионы. Помню, что одним из объектов была московская городская телефонная сеть, которую предстояло реконструировать.
Ельцин мельком взглянул на бумаги.
– Значит. – спросил он как о чём-то решённом, – кредит будет несвязанным?
И, не дожидаясь внятного ответа, кивнул, давая добро на подпись.
При обмене короткими речами с тогдашним премьером Мэйджером он снова с некоторым торжеством повторил полюбившееся ему выражение «несвязанный кредит». Меж тем, первоначальный список объектов, под которые кредит и выдавался, был благополучно приложен к подписанному соглашению о связанном кредите без каких-либо вторжений в него.
Программа первого, рабочего визита в Лондон была столь плотной, что на посещение посольства оставалось перед отлётом не более получаса. Мы провели их стоя, с бокалами в руках.
– Вот первый раз делаю глоток в стенах р-р-одного посольства Р-р-р-росийской федерации, – прогудел наш высокий гость.
Когда мы с ним уже сидели в машине, локоть к локтю, открылась дверца первой кабины и туда буквально влетел переводчик из состава делегации, принося неразборчиво извинения за минутное опоздание.
– А мы с послом в переводе-то как будто не нуждаемся, – процедил, к моему удовольствию, Борис Николаевич, и переводчика словно ветром выдуло из машины.
Всю дорогу до Хитроу разогретый тёплым приёмом в посольстве Борис Николаевич рассказывал, как принимал из рук Горбачёва реквизиты власти, включая и ядерный чемоданчик.
– Только вот от сейфа генеральных секретарей отказался. А зачем мне это? Я генсеком не был и не собираюсь.
– Но вы с Горбачёвым ещё увидитесь, конечно? – спросил я, чтобы как-то поддержать разговор.
– А зачем? – удивился собеседник и, не дожидаясь ответа, продолжил рассказ о сейфе.
Случилось так, что с супругой Горбачёва Раисой Максимовной я познакомился раньше, чем с ним самим, в ту пору, когда он был ещё партийным руководителем Ставропольского края.
Дело было в Сочи. Там в советские времена был санаторий, который официально назывался «Объединённые Сочи», а неофициально – Кремлёвка, поскольку предназначен он был для отдыха так называемой номенклатуры. Номенклатуры, я бы сказал, среднего ранга. Номенклатуру рангом повыше – подчеркну, не самую высокую, а повыше – размещали в корпусе люкс этого же санатория. Вот в этом корпусе, вернее, в его столовой, мы и провели с Раисой Максимовной и её дочкой две недели за одним столиком. Да, только за ним мы и виделись. Дело в том, что при санатории было два пляжа. Один для обитателей большого корпуса, другой – для гостей корпуса люкс. При этом у последних на пляже тоже были разные права. Замечу, раз уж к слову пришлось. Одним полотенце-простыню выдавали при входе на пляж, другим рекомендовали приносить необходимое с собой.
Я ходил на пляж «демократический». Там у меня были друзья, и Раиса Максимовна не без вызова расспрашивала, почему меня не видно на пляже люкс. И укоризненно покачивала головой по поводу игры не по правилам.
– Не здесь ли и собака зарыта? – подкалывали меня десять лет спустя помощники Горбачёва-генсека, удивляясь тому, что он так долго держит меня в послах, в то время как молва куда только не назначала.
Убедиться, чем и кем была Раиса Максимовна для окружения мужа, мне довелось благодаря счастливому случаю, который мог бы обернуться служебными неприятностями. Я был в Москве и по посольским надобностям пришел на приём к давнему моему старшему другу Александру Николаевичу Яковлеву, который несколькими часами раньше на Пленуме ЦК КПСС был избран членом Политбюро. В самом начале нашей беседы ему позвонила по правительственному телефону Раиса Максимовна, поздравила с избранием, и между ними завязался долгий разговор, из которого я как невольный свидетель понял, что не так-то уж она далека была от мужних дел и забот, как можно об этом услышать и прочитать.
Но не это меня в тот отрезок времени волновало. Я не мог по законам служебного ритуала покинуть кабинет члена Политбюро, не закончив собеседования и не попрощавшись, но не мог и позволить себе опоздать на приём к премьер-министру, тогда это был Рыжков. Цейтнот.
Яковлев в ответ на мою жестикуляцию только разводил руками. Казалось бы, чего проще: прервать, извинившись протокольно, разговор и сказать, что позвонит чуть попозже. Но на это у моего старшего друга куража не хватило, хотя он знал, что я опаздываю к премьеру. Зато мне пришлось в Кремле извиняться за опоздание перед премьером.
Представить образ Горбачёва в формате избранного мною жанра арабесок так же трудно, как это было с Бушем-старшим. Слишком они оба серьёзные люди и слишком мало их натура подвержена неконтролируемым эмоциональным выбросам. Но свидетелем пары всплесков Горбачева, один из которых имел самое прямое отношение ко мне, всё же довелось стать.
Начало моей мининделовской карьеры пришлось, помимо прочего, на дни особенно ожесточённых военных столкновений между Сербией Милошевича, которая всё ещё называлась Югославией, и Хорватией Франьо Туджмана. Я предложил Горбачёву пригласить обоих лидеров в Москву и попытаться принудить их к миру. Он не сразу, тем более что возражал его главный советник и советчик Черняев, но согласился.
Сторонами конфликта приглашение было принято без колебаний. По программе было так, что Горбачёв сначала, при моём, министра иностранных дел, участии, встречался с каждым из них отдельно. В поведении и манерах Туджмана я не отметил ничего привлекающего к себе внимание. Типичный западноевропейский с южноевропейским акцентом, со всех сторон обкатанный политик. Не сказать чтобы политикан.
Милошевич же, когда он вошёл, настороженно вглядываясь в лица ожидавших его собеседников, напоминал посетителя цирка, который нечаянно попал на арену. Постепенно, но не сразу, его настороженность, если не сказать набыченность, таяла, и покидал он кабинет молодцеватой походкой человека, приблизившегося к заветной цели.
– О, гляди, – забыв о дипломатии, сказал Михаил Сергеевич, провожая взором уходящего: – Второй Борис Николаевич. Только умнее.
Результатом переговоров стало соглашение о перемирии, которое подписали лидеры республик и Горбачёв.
– О Франю, Франю, – словно в трансе, повторял Милошевич, касаясь плеча невозмутимого Туджмана.
Вскоре после этого независимость объявила Босния и Герцеговина, ФРГ её признало и только что вступившее в силу перемирие было оборвано.
Второй эпизод имел место позднее и произошёл в кабинете министра иностранных дел, где мне в тот час предстояло передать бразды управления внешней политикой Эдуарду Шеварднадзе. Как оказалось, всего на две недели.
Раз нельзя было избавиться от МИДа, избавились от министра, который провозглашал: «Одна страна – одна внешняя политика».
Заодно и само ведомство переименовали. МИД стал министерством внешних сношений.
Прежде чем выйти в конференц–зал, к мидовскому люду, мы трое, Горбачёв, Шеварднадзе и я, обсуждали в кабинете сценарий предстоящего действа. Впрочем, «мы» – это сильно сказано. Говорил, как всегда, один Горбачёв: – Я сяду посредине. Ты, Эдуард, слева, Борис справа. Сначала я скажу о Борисе, потом о тебе. Потом ты…
Я, не выдержав, съехидничал: – А мне-то дадут слово сказать, Михаил Сергеевич?
И тут он произнёс, нет, выпалил фразу, ради которой я и рассказал всю эту историю:
– Борис Дмитриевич, fuck you, ну не сыпь ты соль на раны…
И за эту столь неожиданную в его устах фразу я много готов был ему простить.
«А что, собственно, было ему прощать?», – спрашивали те, кто либо прочитал об этом эпизоде в моих мемуарах, либо слышал о нём из моих уст. Но это особый разговор, который уже выходит за рамки арабесок.
Опережая возможные вопросы, чуть было не сказал, что с Путиным я не встречался. Но тут же был вынужден поправить сам себя. Году в 93-м или 94-м Жак Атали, тогда генеральный директор Евробанка, со штаб-квартирой в Лондоне, пригласил на ланч губернатора Ленинграда Анатолия Собчака, который, как и другие деятели либерально-демократического направления, тогда часто посещал британскую столицу. За столиком в ресторане мы сидели втроём, а чуть поодаль находился сотрудник мэра, который по кивку или повороту головы шефа доставал из большого портфеля, лежавшего на соседнем стуле, различные бумаги и протягивал их боссу… Давал, если требовалось, пояснения.
Когда Путин стал медийной фигурой, я узнал в нём того сотрудника Собчака.