Евгений Казарцев — журналист и литератор. Родился в 1992 году в Минске, там же и окончил журфак. Печатался в журналах, рассказах и сборниках, выходил в финалы нескольких конкурсов короткой прозы. Автор книги F43.
Оставайся назад
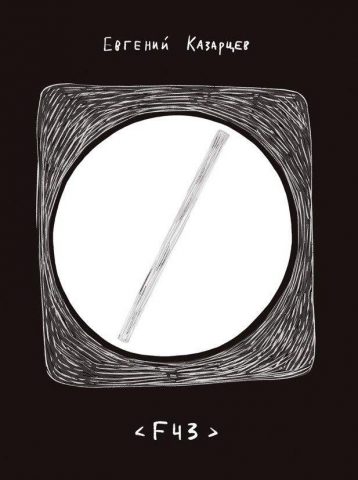 «Zurückbleiben bitte», — с нежностью прошептал из колонок в вагоне мужской голос.
«Zurückbleiben bitte», — с нежностью прошептал из колонок в вагоне мужской голос.
Следующая остановка — Потсдамер-плац, еще немного — и Марлен-Дитрих-платц, а по пути — Сони-центр, где продают самый невкусный в Берлине кофе и набор открыток с Чаплином.
Десять минут, толпа людей и запахов — и вот мы сидим на скамейке в небольшом парке. Последний день, когда можем сидеть и ничего не делать. Завтра я буду работать, ездить в трамвае с наушниками и думать совсем не о том, что в небе волной плывут вороны, кричат, вырисовывают сложные фигуры, лентой Мебиуса кружатся прямо над головами.
— Это вряд ли вороны, они больше индивидуалисты. Скорее, грачи, — Саша задумчиво курит, прижимает к себе одной рукой рюкзак.
Говорят, в Берлине сплошное воровство, грабежи, обезумевшие мигранты накидываются из-за угла и требуют бумажник, а в Тиргартен вообще не зайдешь: сразу изнасилуют и бросят умирать. Саша несколько дней открывал вечером телефон и читал мне сводку криминальных новостей: да-да, совсем не Минск, здесь никто и не подумает. В довесок ко всему, раздражал его и немецкий язык, и люди кругом.
— Я, конечно, только в школе немного учил, но странно звучит. Цурук — это назад. Бляйбен — оставаться. Оставайтесь назад? Это как?
Пожимаю плечами. Грачи (вороны?) уже улетели, спрятались за чередой разномастных домов. Низкое небо без них выглядело как грязная простыня, которую мы в детстве натягивали на свой импровизированный домик из табуреток в качестве крыши.
Отвлек старик. Дерганный, пошатывающийся, но трезвый. Лица почти не видно за серой бородой — еще немного, и оно слилось бы с небом. Саша прижал рюкзак покрепче, взрослое и серьезное лицо за мгновение стало детским, напряженным, ждущим чего-то.
— Haben Sie 50 Cent?
Голос его звучал как из поломанного приемника. Саша помотал головой.
— Извините, — отчего-то по-русски сказал я.
— Хлопці, свої! — старик хлопнул в ладоши. — Звідки?
— Из Беларуси.
Ненавижу такие разговоры. Откуда вы? О, здорово, бывал у вас тогда-то! Как там дела? Вот порядок, да! О, а жена моя… а дети… хотите?.. Земляки!
— Це добре. Одразу видно, добрий чоловік.
Старик пожевал бороду, с минуту посмотрел на меня с сомнением.
— Ти його… тримай попереду, — махнул рукой и ушел.
Ехали вечером домой, рядом села женщина с газетой на французском. Через ряд — стайка подростков с планшетом. Саша всю дорогу молчал, смотрел в разрисованные бранденбургскими воротами окна и отсчитывал по-немецки остановки.
— Нам выходить на sechsten Station… Это была dritte, — говорил он в сторону. — Тьфу, жуткий язык. Я все же думаю, что не надо тебе сюда переезжать. Ну, то есть я понимаю, стажировка, все дела, но…
— Как думаешь, — повернулся я к нему, — что имел в виду тот старик? С этим трымай попераду?
Zurückbleiben bitte, предупредил мужской голос, нам остались две остановки.
— Да кто ж его поймет. Но не стоит оставаться, здесь так себе.
Жили мы неподалеку от Кройцберга. Налево пойдешь — к дому Боуи придешь, направо — стену найдешь. Пошли прямо — за пивом. Небо, наконец, разродилось: накрапывало.
Я заказал два пива, но Саша пить отказался. Сказал: настроения нет, передумал, да и вообще скоро лекарства пить — все никак не добьет какие-то бактерии. Уговаривал его, но нет: только щелкал зажигалкой и тянул сигареты одну за другой. Когда опьянел я, на искренность прорвало его: сказал, что хочет домой — почти неделя здесь его жутко вымотала.
Птицы что-то кричали с крыши терминала, когда мы приземлились в Берлине неделю назад. Я — с тремя сумками, в которые уложил все, от одежды и книг до высушенного листа сирени с бабушкиной дачи. Саша — с одним рюкзаком. В кармане лежала пачка документов: приглашения, рекомендации, выписки со счетов и аттестаты. Повезло: со своим дипломом искусствоведа я подошел для участия в программе «Молодые кураторы Восточной Европы». Пройдет все хорошо — после обучения оставят здесь работать и заниматься художниками бывшего эс-эс-эс-эр. Нет — ну, поживу здесь месяцок. У нас была свободная неделя до старта программы. Неделя, чтобы просто бродить по городу и пить вечерами в Кройцберге пиво. Пил, правда, только я. Саша все время молчал, лишь изредка что-то с сомнением в голосе говорил.
По мокрым улицам, скользя на влажных кленовых листьях. Мимо веселых компаний, мимо want some? от темных парней в растянутых штанах, мимо пахнущих мочой углов зданий и звенящих поездов.
— Завтра у тебя начинается программа.
— Ага.
— Может, к черту? Здесь все такое чужое, — он театрально огляделся.
Мимо проехала старушка на велосипеде. Не сбавляя темпа, крикнула с улыбкой «hallo», помахала рукой и быстро скрылась за деревьями. Отчего-то стало очень легко.
— Нет, в самый раз, мое.
Поднялись к себе, я сразу рухнул на кровать. Саша сел на свою и помолчал. Потом что-то пробурчал, откинулся на подушку и достал книгу. Не помню, как уснул — наверное, он еще читал, а старый гэдээровский торшер согревал комнату персиковым светом.
Утром смотрю — нет Саши. И кровать застлана. Торшер выключен.
Телефон свой нашел под подушкой. Пытался найти его телефон — нет его. Полез во ВКонтакте — и там нет. Спустился на ресепшн, где в первую смену подрабатывает поляк Тадеуш. Еще при заселении он рассказал: русскому учила бабушка, и теперь в работе полезно.
— Со мной заселялся парень, он куда-то уходил? Ты не видел?
Тадеуш поднял на мгновение заспанные глаза, потом уткнулся в монитор компьютера.
— Номер пять ноль два?
Кивнул.
— Только один жилец, — «ж-и-ль-ец». — Никакого парня не помню другого, — пожал плечами.
Тадеуш проверил папочку с отсканированными паспортами всех жильцов, потом перепроверил комплекты ключей — на мою комнату он был один. Снова пожал плечами, извинился.
— Кажется, ты был один.
Прозвучали эти слова так буднично, будто Тадеуш рассказывал мне об очередном росте цен на молоко.
Я вышел из гостиницы. Небо было чистое, начинало прогревать солнце. Если бы не мокрые ноги, все было бы хорошо. Наверное. Сел, закурил. В голове неоновой вывеской светились zurückbleiben bitte, звездочка, сносочка, оставайтесь назад.
Через полчаса я сидел в трамвае и ехал в галерею. Vorwärtsbleiben. Bitte.
Окситоцин
Маше приснилось, что она разлюбила его, и поэтому она проснулась вся в слезах. Лежала час, разглядывала потолок, а слезы все лились по щекам. И стало противно, и кожу защипало, и в окне уже светало, а она все лежала, боролась с желанием выть
испуганные птицы громко кричат, зовут друг друга и пытаются отпугнуть угрозу; загнанный в угол кот шипит и громко мяукает; собака скулит и воет; слоны громко трубят и хлопают ушами — в надежде убедить врага, что ему лучше не приближаться
и пыталась прийти в себя.
Наконец, она сбросила остатки сна, повалялась немного в кровати и пошла умываться и готовить себе завтрак.
Было пять утра.
* * *
Он нравился Маше. Так сильно, что она боялась лишний раз произнести его имя — вдруг спугнет?
Обычно они гуляли по парку, его плечо на уровне ее уха, на четыре его шага — шесть ее, и молчали. Потребности говорить попросту не было, любое слово могло бы разрушить чудесный морок, не услышать чего-то по-настоящему важного.
А рассказывал он ей иногда много такого, что дух захватывало. И именно после этого хотелось молчать.
Несколько лет назад он вместе с отцом поехал к родственникам куда-то под Нижний Новгород, по пути назад они заглянули к озеру Светлояр.
Как, спрашивал он, ты никогда не слышала про это озеро? Маша только качала головой — несколько обреченно, будто смирившись с тем, что вот такая она глупая и ничего не знает, а он со свистом затягивался уже сигаретой и, выпуская беловатый дым, рассказывал
что на озере том стоял город Китеж, где все радовались и смеялись, и не было ни одного дождливого дня. Позже о нем услыхали монголы — решили захватить чудо-град. Но не дался им Китеж, тут божьи руки помогли: столбы воды поднялись из озера и защитили город от захватчиков, погрузили его на самое дно. Теперь, если долго-долго стоять у этого озера и вслушиваться, можно иногда услышать пение людей и звон колоколов славного Китежа, спрятанного на дне Светлояра.
Сколько ни пыталась Маша выяснить у Гугла, но ответа на вопрос о расстоянии между Светлояром и рекой Свислочь не получала — что-то около тысячи километров, но точнее никто и не скажет. На всякий случай решила она, что, гуляя вдоль реки, они будут молчать.
Вдруг услышат эхо славного города Китежа?
* * *
Молчали они не всегда, разумеется. Рассказал же он как-то ей историю о Китеже. Правда, сам потом смеялся: в легенду эту и старики больше не верят, а вот Маша восприимчивая, доверчивая.
Ну как можно быть такой дурехой?
Ты действительно в это поверила, девочка?
На самом деле, это даже мило, что тебя так история проняла. Значит, есть еще что-то…
Виделись, гуляли, молчали и разговаривали они несколько месяцев. Но Маше казалось, что куда дольше. Каждый раз, когда ее ждала встреча с ним, она бежала с работы как можно быстрее — подальше от надоевших цифр, бухгалтерских отчетов, подходных и других налогов, систем один-цэ и прочих.
И прибегала, со спутанными волосами, раскрасневшаяся, но счастливая. Он обычно ждал ее под тополем у входа в парк.
Весной, когда листья только появлялись на дереве, он стоял, прислонившись к стволу, и его темно-серое пальто сливалось с цветом коры. Если бы Маша сняла очки, то видела бы только светлый овал лица прямо на дереве — так, будто сам он появился из какой-нибудь легенды.
была такая серая книжка, как она называлась? А, да, «Легенды и мифы Древней Греции», Н. Кун. И в детстве казалось, что за буквой «Н» будет скрывать какой-нибудь этакое имя — с такой-то необычной фамилией, но позже выяснилось: Николай. И никакой загадки, экзотики, чуда. Николай и Николай. Так вот. И у Николая этого, и в других таких книжках, зачитанных до дыр лет этак в девять, много историй было о нимфах и дриадах, убегавших от кого-то и превратившихся в дерево — чтобы их никто не смог найти.
А летом, на фоне ярко-зеленой травы и темных листьев, он, наоборот, всегда выделялся. Будто специально подбирал одежду так, чтобы на контрасте привлекать внимание. Все так же опирался на ствол, но уже в ярко-красной майке и ярко-голубых джинсах, со взлохмаченной челкой и — опять же, контраст — совершенно равнодушными глазами.
* * *
Только моргнула — и после парка они оказываются у нее дома, сидят на старых табуретках, выставленных на балкон, подставляют лица теплому солнцу. Он снова курит, выдыхает специально к правому плечу — чтобы на Машу ничего не летело.
Так сидеть хорошо. От удовольствия можно жмуриться, потягиваться, улыбаться свету и ему.
Но есть одна проблема: Маша ничего не понимает. Что их связывает, почему он с ней, как они познакомились и как так вышло, что вся ее жизнь, по сути, вертится вокруг одного его?
Называть по имени его по-прежнему страшно. Маша не хочет его окликать или звать,
лежит на коленях кот, ластится, вибрирует всем телом; назовешь его, позовешь — эй, Фил, — и он сразу прижимает уши, вздрагивает, встает и уходит, ведь нечего было отвлекать
Ей только хочется сказать, что они так здорово сидят, он такой красивый, и синие глаза его будто отражаются в небе, и все она вспомнила, совсем все — и плохое, и хорошее, и она так глупит, потому что как пьяная с ним, никогда такой счастливой не была.
Он будто слышит ее мысли, улыбается и предлагает посмотреть какой-нибудь фильм.
Что ты хочешь посмотреть, Маша?
Ну реши, пожалуйста, не могу ведь я один всегда решать.
Давай так: триллер или комедию?
Ну хорошо, тогда я за Хичкока. Ты ведь ничего не имеешь против старого кино?
Конечно, не имеет. Конечно, не смотрела она никогда Хичкока. В школе она только училась, пила с подружками пиво в подъездах, а большую часть времени читала то Агату Кристи, то Сергея Лукьяненко, и вообще кино не смотрела — ну, разве что одноклассницы куда-нибудь звали, но там были «Дьявол носит Прада» или «Девушка моих кошмаров», что же еще в кинотеатрах показывали, и ни о каком таком Хичкоке не думала. Давай его, согласна.
* * *
Тот фильм назывался «Незнакомцы в поезде», они смотрели его вместе с большой упаковкой чипсов — со вкусом краба, если вы хотите знать, такие Маша пробовала впервые, и они ей очень понравились. Да и само кино она оценила, потом долго делилась впечатлениями, чувствовала себя школьницей и неловко смеялась, когда его рука ползла по ее плечам, а она все говорила и говорила о том, как восприняла этот фильм и как это не похоже на все то, что она раньше смотрела.
Он засмеялся и спросил, неужели раньше она смотрела только романтические комедии и мультики Диснея.
и захотел как-то Хичкок снять фильм в «Диснейленде», но лично хозяин студии, великий и ужасный Дисней, отказал в этом: ему не нравилось «Психо» — «этот ужасный фильм».
Маша неловко хихикнула: да, Диснея она любит, а «Спящая красавица» — любимый мультфильм.
Рука его почти касалась ее кожи. Бегали мурашки, хотелось запомнить этот момент как можно лучше, точнее, чтобы и завтра, сидя на работе и составляя налоговые отчеты, чувствовать все это, ждать вечера, а выходя с работы, вдыхать глубоко-глубоко, смотреть на прыгающих по веткам лазоревок и договариваться о следующей встрече.
* * *
Неполный список того, что Маша знала о нем:
- Он работает в IT. Что конкретно делает — непонятно. Маша пыталась вникнуть, но не смогла.
- Его рост — сто восемьдесят три сантиметра, что в сумме дает двенадцать, а дальше — три. Как известно, три — счастливое число.
- Размер ноги — сорок пять, одежды — сорок восемь. Он худой и высокий, глаза голубые, а волосы черные — как голова сороки.
- Он любит кино и много читает, при ней покупал Памука и Эко — наверное, это его любимые писатели.
- Ему не нравится, когда трогают за ушами.
- Родители живут за городом и уже на пенсии, он поздний и единственный ребенок в семье.
- В кофе сахар не нужен, в чай — две ложки.
- Не любит фотографироваться.
- В детстве играл в футбол, но потом порвал мениск — и прекратил. Теперь на здоровье не жалуется, но иногда, говорит, «стреляет» в колене.
* * *
Еще вчера они лежали на одеяле, переплетя ноги, а сегодня ссорились.
Маша сама не понимала, что на нее нашло. Оп — и в ушах какой-то звон, и кровь будто кипит, и хочется кричать: покажи свой дом, познакомь с родителями, что ты от меня все скрываешь, вообще не понятно, есть ты или нет, будто я совсем с ума сошла.
«Ссорились» — громкое слово. Она кричала так, что вороны испуганно каркали в ответ. Он молчал и пил чай, смотрел будто бы мимо нее и ждал, когда Маша успокоится, придет в себя, и снова они будут молча смотреть друг на друга.
окситоцин — гормон доверия и любви, привязанности и дружбы; его снижение приводит к росту стресса и мешает крепкому сну, а также негативно влияет на эмоциональное состояние
Но Маша не унималась. Она кричала, и вокруг все звенело, и тарелки в шкафах ударялись друг о друга, а вороны за окном продолжали кричать, и чувствовала себя Маша разозленной кошкой, готовой спрыгнуть, выгнуть спину, располосовать лицо — исцарапать все эти сто восемьдесят три (двенадцать, три) сантиметра, тянуть за темные волосы, брызгать слюной в синие глаза.
А он все сидел и молчал, никак не реагировал ни на крики, ни на гневные шаги ее из стороны в сторону. Ждал так, как ждут отдыхающие у беспокойного моря — когда вода замрет, и в нее можно будет снова войти.
* * *
Чувствовала себя Маша после той ссоры дурой. Круглой дурой, набитой прыгающими гормонами — они представлялись зловредными гномами, нажимающими совсем не те кнопки на панели управления ее психикой. Но он ее, кажется, простил.
И вот они снова шли вдоль Свислочи, и солнце пряталось за недостроенным отелем, в воде покачивались сонные кряквы. Молчали.
Маша пыталась дышать в такт, но ей не удавалось — между его вдохом и выдохом могла уместиться вечность. А сердце так колотилось, что замедлить свое дыхание, попасть в унисон не удавалось совершенно.
С каждым шагом чувство вины все усиливалось, но он был легок и беззаботен — такой, каким было ее счастье.
Остановились у мостика, он достал сигарету. Маша потянулась к его пачке.
С каких пор ты куришь?
Действительно? Я многого о тебе не знаю, ха.
Ну ладно-ладно, бери.
Маша затянулась и сразу закашлялась. Снова почувствовала себя маленькой девочкой — но на секунду. Потом, она сама не знала почему, повернулась к нему. Провела ладонью по подбородку. До нее донесся слабый звук — будто бы под водой кто-то включил музыку, и вот кряквы качались на слабых волнах в такт, и можно было разобрать какие-то обрывки фраз.
И поняла, что больше его не любит. Совсем.
* * *
Было пять утра.
Маша успокоилась. На сковородке шипел омлет, в доме напротив в нескольких окнах тоже горел свет.
Ну и приснится же такое, думала она, пока переворачивала омлет, краем глаза поглядывая в экран маленького кухонного телевизора. Страшно представить, что было бы, если действительно…
эмоциональные воспоминания закрепляются под воздействием окситоцина
… И действительно, его не было. Ни волос, ни ста восьмидесяти трех сантиметров, ни серого пальто, ни рассказов о Китеже (это все передачи по ТВ3), ни Хичкока (его очень любит Машин папа) — вообще ничего.
Тогда Маша снова заплакала.
Спасибо за то, что читаете Текстуру! Приглашаем вас подписаться на нашу рассылку. Новые публикации, свежие новости, приглашения на мероприятия (в том числе закрытые), а также кое-что, о чем мы не говорим широкой публике, — только в рассылке портала Textura!




