Гуманитарные итоги 2010-2020. Книга десятилетия. Часть II
Портал Textura начинает серию опросов, направленных на исследование гуманитарных итогов прошедшего десятилетия (2010—2020 гг.) В первом выпуске — опрос о главной книге десятилетия. Мы задали тридцати экспертам — литературным критикам, филологам, писателям, — три вопроса:
1. Какую книгу (одну: в прозе, поэзии, нон-фикшн, российскую или переводную) Вы бы назвали «книгой прошедшего десятилетия» (2010—2020)? Чем она для Вас важна в личностном смысле — и чем в литературном?
2. Расскажите, пожалуйста, об истории Вашего знакомства с этой книгой.
3. Как Вы думаете, имеет ли смысл в контексте кризиса культурного перепроизводства, который уже стал общим местом, говорить об «общезначимости» в связи с конкретной книгой? Что Вы вкладываете в понятие «общезначимость», если признаёте его в принципе?
В этом выпуске читайте ответы Светланы МИХЕЕВОЙ, Константина КОМАРОВА, Евгения АБДУЛЛАЕВА, Алексея КОЛОБРОДОВА, Анаит ГРИГОРЯН, Булата ХАНОВА, Валерии ПУСТОВОЙ, Ольги БУГОСЛАВСКОЙ, Марии БУШУЕВОЙ.
Ответы Михаила НЕМЦЕВА, Егора МИХАЙЛОВА, Сергея КОСТЫРКО, Вадима МУРАТХАНОВА, Игоря КИРИЕНКОВА, Андрея ТАВРОВА, Анатолия РЯСОВА, Кирилла АНКУДИНОВА, Кирилла КОБРИНА, Александра МАРКОВА, Ольги БАЛЛА-ГЕРТМАН, Андрея ВАСИЛЕВСКОГО читайте в первой части опроса.
Светлана МИХЕЕВА, поэт, эссеист, литературный критик:
ДЖОРДЖО АГАМБЕН. «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ»;
ГАРОЛЬД БЛУМ «ЗАПАДНЫЙ КАНОН»
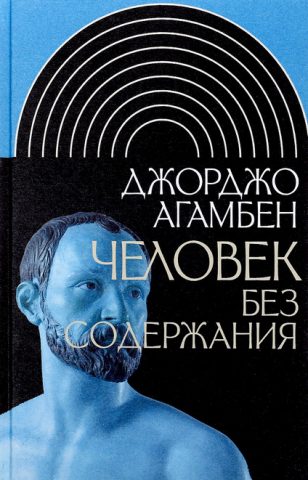 1. Невероятно сложно говорить в общем, тем более — устанавливать авторитеты для десятилетия. В моём десятилетии было несколько книг, заставивших меня пережить по-новому саму себя. Каждая была необходимой в свой момент. Для последнего времени — это две взаимосвязанных (для меня) книги: главная — итальянского философа Джорджо Агамбена «Человек без содержания» (2018 год, НЛО) и невероятно спорная, запальчивая — и тем более интересная — книга профессора Йельского университета Гарольда Блума «Западный канон» (2017 год, НЛО). С каким правом мы подходим к оценке произведений искусства — и есть ли у нас такое право вообще? Что делать автору и зрителю (читателю) в эпоху потребления — и невероятного накопления культурных артефактов? Какова вообще ценность произведения в мире перенасыщения? Стоит ли бороться против канона или же он нам необходим? Как нам, в итоге, поступать с традицией — складывать в музейные хранилища или использовать, нарушая её традиционность? Что будет связующим звеном между старым и новым? Это, обобщённо, те вопросы, которые, полагаю, сегодня тревожат многих. Я не могу разделить их важность и важность прочитанных книг на «личную» и «литературную» (то есть общественную в определённом роде). Это какая-то общая, человеческая важность, попытка найти тот баланс, на котором энергия искусства (вообще энергия изменения) эффективно оспаривает канон, любую культурную традицию, вступая с ней в сложную взаимосвязь, позволяющую в итоге культуре (и обществу вообще) продолжаться, а искусству — иметь право на конфликт с ней.
1. Невероятно сложно говорить в общем, тем более — устанавливать авторитеты для десятилетия. В моём десятилетии было несколько книг, заставивших меня пережить по-новому саму себя. Каждая была необходимой в свой момент. Для последнего времени — это две взаимосвязанных (для меня) книги: главная — итальянского философа Джорджо Агамбена «Человек без содержания» (2018 год, НЛО) и невероятно спорная, запальчивая — и тем более интересная — книга профессора Йельского университета Гарольда Блума «Западный канон» (2017 год, НЛО). С каким правом мы подходим к оценке произведений искусства — и есть ли у нас такое право вообще? Что делать автору и зрителю (читателю) в эпоху потребления — и невероятного накопления культурных артефактов? Какова вообще ценность произведения в мире перенасыщения? Стоит ли бороться против канона или же он нам необходим? Как нам, в итоге, поступать с традицией — складывать в музейные хранилища или использовать, нарушая её традиционность? Что будет связующим звеном между старым и новым? Это, обобщённо, те вопросы, которые, полагаю, сегодня тревожат многих. Я не могу разделить их важность и важность прочитанных книг на «личную» и «литературную» (то есть общественную в определённом роде). Это какая-то общая, человеческая важность, попытка найти тот баланс, на котором энергия искусства (вообще энергия изменения) эффективно оспаривает канон, любую культурную традицию, вступая с ней в сложную взаимосвязь, позволяющую в итоге культуре (и обществу вообще) продолжаться, а искусству — иметь право на конфликт с ней.
2.«Человек без содержания» попал ко мне по чистому наитию: увидев на сайте книжного фамилию автора, которая ни о чём не говорила мне, название, которое могло говорить о чём угодно, я вдруг поняла, что эта книга должна быть у меня как можно скорее. «Западный канон» потянулся за ней — как иллюстрация к сказанному Агамбеном (еще, кстати, в 1970 году). И если Агамбен предельно последователен и убедителен, предполагая, что эстетика «разрешает конфликт между старым и новым», то идеи Блума парадоксальным образом блекнут на фоне его уверенности в сказанном — удивительно, как уверенность может стать слабым местом, притом что основная идея о «школе рессентимента» весьма небезосновательна (и уже не только для западной культуры). Почти религиозная убеждённость может привести, увы, к комическому результату — если автор вдруг забывает, что сама книга — это полемическое пространство. Однако фанатизм Блума весьма ярко освещает тот большой вопрос, который разъясняет Агамбен. Никто, пожалуй, не размышлял о каноне столь пристрастно.
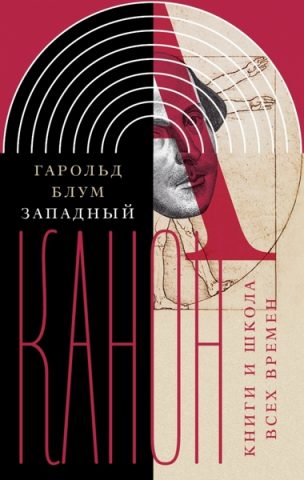 3. Вопрос об общезначимости, о каноне, по существу, — самый яркий в сегодняшней повестке. На мой взгляд, это то, над чем нам следует хорошенько подумать: можем ли мы говорить об «общезначимости» как о некой константе. Ведь здесь мы, скорее всего, попадем впросак: «вообще человек», условный «объективный» человек существует лишь в схемах в атласе анатомии. Все остальное — включая великие произведения, всю литературу — не объективно, а предельно субъективно. Отношения человека и общества, на мой взгляд, ровно такие же, как отношения искусства и культуры, соответственно. Субъективность искусства находится в необходимой конфронтации с объективностью культуры — и только так возможно получить энергию для дальнейшего развития, и только так возможно балансировать в этом подвижном мире.
3. Вопрос об общезначимости, о каноне, по существу, — самый яркий в сегодняшней повестке. На мой взгляд, это то, над чем нам следует хорошенько подумать: можем ли мы говорить об «общезначимости» как о некой константе. Ведь здесь мы, скорее всего, попадем впросак: «вообще человек», условный «объективный» человек существует лишь в схемах в атласе анатомии. Все остальное — включая великие произведения, всю литературу — не объективно, а предельно субъективно. Отношения человека и общества, на мой взгляд, ровно такие же, как отношения искусства и культуры, соответственно. Субъективность искусства находится в необходимой конфронтации с объективностью культуры — и только так возможно получить энергию для дальнейшего развития, и только так возможно балансировать в этом подвижном мире.
Рискнём и назовём книгу общезначимой для всего человечества? Ну, положим — однако здесь мы сильно рискуем попасть в свою собственную ловушку, как это случилось с Блумом, точнее с Шекспиром Блума: фигура классика вдруг приобретает гротескные черты, достижения его профанируются, через какое-то утопическое возвеличивание теряют достоинство. А если учесть искажения переводов ради адаптации для национальных менталитетов, если учесть, что Шекспир писал в переломное для английского языка время…
В общем, я бы, скорее, задала вопрос об «основании эстетического суждения», говоря об «общезначимости», как это, по сути, сделал Агамбен, опираясь на предшественников, рассуждавших о прекрасном и об искусстве. Я бы повторила его вопрос о том, что нам делать с тем «чудовищным архивом», который разрастается от «бесконечного накопления старого»? И я бы заметила, что литература движется от книги к книге, ничто не существует в ней само по себе. Мы, желая обрести «точку состоятельности», нуждаемся для начала в глобальной культурной ревизии, чтобы, расчислив в этом космосе все возможные орбиты, получить надежду вернуться к самим себе.
Константин КОМАРОВ, поэт, литературный критик, кандидат филологических наук:
ЮРИЙ КАЗАРИН. «КАМЕНСКИЕ ЭЛЕГИИ»
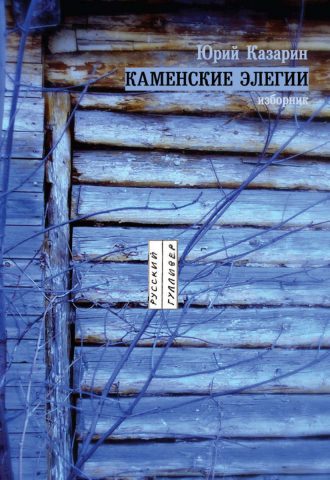 За прошедшее десятилетие появилось немало достойных книг во всех родах и жанрах литературы, но если выделять одну, то назову книгу стихотворений Юрия Казарина «Каменские элегии». Строго говоря, это книжный триптих — «белая», «чёрная» и «серая» (имеющая подзаголовок «Ангел. Птица. Человек») по цвету обложки небольшого формата тонкие книжки, вышедшие соответственно в 2009-м, 2010-м и 2011-м году в Екатеринбурге, в издательстве Уральского университета. В 2012-м году они были собраны в одной книге — «Каменские элегии. Изборник», выпущенной московским издательством «Русский Гулливер». На форзаце «гулливерского» издания среди замечательных откликов Аркадия Застырца, Майи Никулиной, Вадима Месяца, Андрея Таврова и других видных поэтов и филологов размещён (к моей радости и гордости) и мой отзыв: «“Каменские элегии” — некий абсолютный метафизический «запредел» — страшный и благостный одновременно, когда ёмкость, плотность, густота поэтического образа оборачивается такой разряженностью интонации, «голосового воздуха», что при чтении (я бы даже сказал — при вдыхании текста буквально перехватывает горло. Проще говоря, в «Элегиях» мы сталкиваемся с чистым «веществом поэзии», с таинственной и чудесной её субстанцией — отфильтрованной от всего поверхностного, наносного, тленного».
За прошедшее десятилетие появилось немало достойных книг во всех родах и жанрах литературы, но если выделять одну, то назову книгу стихотворений Юрия Казарина «Каменские элегии». Строго говоря, это книжный триптих — «белая», «чёрная» и «серая» (имеющая подзаголовок «Ангел. Птица. Человек») по цвету обложки небольшого формата тонкие книжки, вышедшие соответственно в 2009-м, 2010-м и 2011-м году в Екатеринбурге, в издательстве Уральского университета. В 2012-м году они были собраны в одной книге — «Каменские элегии. Изборник», выпущенной московским издательством «Русский Гулливер». На форзаце «гулливерского» издания среди замечательных откликов Аркадия Застырца, Майи Никулиной, Вадима Месяца, Андрея Таврова и других видных поэтов и филологов размещён (к моей радости и гордости) и мой отзыв: «“Каменские элегии” — некий абсолютный метафизический «запредел» — страшный и благостный одновременно, когда ёмкость, плотность, густота поэтического образа оборачивается такой разряженностью интонации, «голосового воздуха», что при чтении (я бы даже сказал — при вдыхании текста буквально перехватывает горло. Проще говоря, в «Элегиях» мы сталкиваемся с чистым «веществом поэзии», с таинственной и чудесной её субстанцией — отфильтрованной от всего поверхностного, наносного, тленного».
Перечитав сейчас — спустя почти десятилетие — «Каменские элегии», я готов повторить свои слова — одно в одно. Созданная в ситуации тотальной — как сейчас модно говорить — самоизоляции, наедине с чистой субстанцией времени и пространства, в деревне Каменка (к которой, равно как и к «Камню» заветного для Казарина Мандельштама), отсылает название, книга эта перенасыщена лирическим «термоядом» такого накала, который я бы сравнил разве что со «Стихами о неизвестном солдате» того же Мандельштама. При этом «упакована» эта поэтическая мощь в «неслыханной простоты» (органически чуждой примитивному упрощенчеству) лирические миниатюры. Казарин достойно осуществил завет другого драгоценного уральского поэта Алексея Решетова: «Зачем, поэт, словарь толковый / Такой большой тебе иметь? // Нужны всего четыре слова: / земля и небо, жизнь и смерть».
В «Каменских элегиях» Казарин передаёт отфильтрованное ощущение «ужаса красоты» («Постижение ужаса красоты» называлась его большая работа о Борисе Рыжем) и красоты ужаса. Психосоматическое и природное здесь сплетаются в удивительные единства, «карта крови» совпадает со звёздной картой. В цельном миробытии этой книги обитают «ледяные соловьи без оперения и кожи», комар может «твоей рукою дать пощечину тебе», «выпадают осадки в виде звёзд», а тьма «чревата временем и светом».
В «Каменских элегиях» много слёз, муки (и её неизменной спутницы — музыки), мучительного гулкого отчаяния, длящегося «поединка» зрения и безумия. Временами кажется, что поэт не просто находится на пограничье жизни и смерти, но смотрит уже «оттуда». Оптика этих стихов — оптика плача. Но плач этот несёт катарсический эффект — очищающий и просветляющий. И эффект этот со временем не слабеет, подтверждая вневременную подлинность лирического дара Юрия Казарина. А это, в свою очередь, — залог общезначимости его поэзии и книги «Каменские элегии», в частности. Не может не быть общезначимой поэзия, которая демонстрирует, как бытие при свете смерти, «отвыканья от земли» опрокидывается в почти физическое состояние бессмертия и слитости со всем природным космосом; поэзия, дарующая возможность взаимодействия с «иным чудом, мучающим этот свет».
Евгений АБДУЛЛАЕВ, прозаик, литературный критик, член редколлегии журнала «Дружба народов»:
МИХАИЛ МАЯЦКИЙ. «КУРОРТ «ЕВРОПА»
 1. Вопрос, конечно, из серии «любимый поэт (цветок, зверёк)», но все же назову. Михаил Маяцкий, «Курорт Европа». Хотя вышла она в «Ад Маргинем» годом раньше, в 2009-м, но нащупала все болевые точки «десятых». И всё, что пишет автор о Европе нулевых, — в которой он с 90-х обитает — в десятые доползло и до России. Деиндустриализация, демодернизация, старение населения, ностальгия по 70-м… И главное — превращение граждан из производителей материальных и прочих ценностей и носителей определённого политического сознания («правого» или «левого») — в «курортников». «Какой будет Европа завтра? Что бы ни мнили — или делали вид, что мнят — политики, какой бы подъем ни сулили избирателям, она наверняка не станет снова индустриальной. Она будет, скорее, тем, чем является уже сегодня, — природно-культурным курортом. Путь Европы очерчен: от «Прометея» через «Фауста» к «Курортнику»». Собственно, я могу назвать три книги, с предельно точным диагнозом современности, которые мне доводилось последние лет двадцать читать: «Мир, лишённый смысла» французского политического мыслителя Заки Лаиди (Un monde privé de sens, 1994; на русский не переведена, читал в английском переводе), «Полный назад» Умберто Эко (вышла в русском переводе в 2007) и — «Курорт Европа».
1. Вопрос, конечно, из серии «любимый поэт (цветок, зверёк)», но все же назову. Михаил Маяцкий, «Курорт Европа». Хотя вышла она в «Ад Маргинем» годом раньше, в 2009-м, но нащупала все болевые точки «десятых». И всё, что пишет автор о Европе нулевых, — в которой он с 90-х обитает — в десятые доползло и до России. Деиндустриализация, демодернизация, старение населения, ностальгия по 70-м… И главное — превращение граждан из производителей материальных и прочих ценностей и носителей определённого политического сознания («правого» или «левого») — в «курортников». «Какой будет Европа завтра? Что бы ни мнили — или делали вид, что мнят — политики, какой бы подъем ни сулили избирателям, она наверняка не станет снова индустриальной. Она будет, скорее, тем, чем является уже сегодня, — природно-культурным курортом. Путь Европы очерчен: от «Прометея» через «Фауста» к «Курортнику»». Собственно, я могу назвать три книги, с предельно точным диагнозом современности, которые мне доводилось последние лет двадцать читать: «Мир, лишённый смысла» французского политического мыслителя Заки Лаиди (Un monde privé de sens, 1994; на русский не переведена, читал в английском переводе), «Полный назад» Умберто Эко (вышла в русском переводе в 2007) и — «Курорт Европа».
2. История незамысловатая — подарил автор. Дело было в Риге, окраине европейско-курортного мира в январе 2011 года. Проводились тогда там такие замечательные семинары, Seminaria Hortus Humanitatis, которые организовывал Сергей Мазур. Жили мы в симпатичной гостинице возле кладбища, район нецентральный, ближайшим местом, где можно было зарядиться чашкой кофе, был игровой салон. Туда по утрам, по снежку, в философских беседах, и ходили. В полутёмном салоне, рядом с подростками, во что-то мрачно рубившимися, и получил эту книгу… И эта картинка как-то хорошо «зарифмовалась» с началом десятилетия: зимняя неподвижность, окраина окраины Европы, игровой салон (идеальная иллюстрация платоновской Пещеры) и два философа, тихо беседующие за чашкой кофе.
3. Я бы только слегка уточнил — кризис не культурного, а информационного перепроизводства. Культурно-значимых книг (фильмов, спектаклей…) «производилось» в десятые не больше, чем в нулевые или девяностые. А вот информационный гул — возрос до верхнего акустического порога.
Да, это такая особенность десятых. Выходит книга достаточно известного мыслителя — а Маяцкий в начале десятых часто публиковался на «Colta», в 2012 выпустил ещё и интереснейшее исследование о круге Стефана Георге… Причём выходит в известном издательстве, довольно неплохим тиражом, 2 100 экземпляров, и в отличном оформлении. Даже получает премию «Общественная мысль-2009». Не говоря о том, что сама по себе книга замечательна и написана на остроактуальную тему. И что? The rest is silence. Ни одной рецензии в крупных журналах (я поздновато получил книгу, но часто на нее ссылаюсь). Никакого заметного обсуждения. То ли мы настолько в десятые перестали считать себя Европой, то ли…
Какая «общезначимость»? Не помню, в чьих-то воспоминаниях середины 40-х годов, кажется Л. Шапориной, когда она держит газету и с ужасом думает, что у всей страны сейчас один взгляд на всё, абсолютно один взгляд… Сегодня у нас другая крайность. Информационный шум, обилие перекрывающих, перебивающих друг друга голосов. Говорящий обречен на немоту и лишь у молчащего есть какой-то шанс быть услышанным.
Алексей КОЛОБРОДОВ, прозаик, литературный критик:
МИХАИЛ ГИГОЛАШВИЛИ. «ЧЁРТОВО КОЛЕСО»
Меня подобные опросы смущают как несколько инфантильной стилистикой, напоминающей анкеты девичьих песенников, так и методологией выкручивания рук (для профессионала выбор единственной (!) Книги Десятилетия — жест волюнтаристский и вивисекторский). Но я профессионалом себя не считаю; к тому же меня заинтересовала не столько тема опроса и его радикальный формат, сколько возможность сказать о книге действительно редкой и важной, и тем самым сделать кое-что для установления исторической справедливости. Равно как и вернуть пусть небольшой, но принципиальный долг.
 Книга эта — роман Михаила Гиголашвили «Чёртово колесо». Оговорюсь — она вышла в издательстве Ad Marginem в 2009 году, но по-настоящему прочитанной оказалась в следующем, пограничном году (тогда же попала в финал «Большой книги»). Концептуально и типологически она принадлежит, безусловно, литературным десятым — более того, во многом их определяет.
Книга эта — роман Михаила Гиголашвили «Чёртово колесо». Оговорюсь — она вышла в издательстве Ad Marginem в 2009 году, но по-настоящему прочитанной оказалась в следующем, пограничном году (тогда же попала в финал «Большой книги»). Концептуально и типологически она принадлежит, безусловно, литературным десятым — более того, во многом их определяет.
В своё, совсем недавнее время, портал Regnum запустил отличный проект о лучших и главных книгах девяностых-нулевых. Я успел написать туда об «Иностранце в смутное время» Эдуарда Лимонова, романе Фридриха Горенштейна «Место» (написанный в 70-е в стол, впервые на русском языке издан в 1991 году); о «Чапаеве и Пустоте» главного русского писателя девяностых и отчасти нулевых — Виктора Пелевина; о гениальных «Репетициях» Владимира Шарова, о взорвавшем литературную ситуацию в начале века «Господине Гексогене» Александра Проханова и об олигархических сагах Юлия Дубова «Большая пайка» и «Меньшее зло». Следующим должно было стать как раз «Чёртово колесо». Я намеревался сказать примерно то же — о формальной принадлежности нулевым, но краеугольном камне десятых… Но тут проект на Regnum`е закрылся (надеюсь, не навсегда). Так и образовался этот личный долг.
Почему я так педалирую хронологию? Дело не в формальной и отчасти шулерской отмазке для попадания в контуры опроса — у литературы свой календарь. «Чёртово колесо» Михаила Гиголашвили — роман, во многом запустивший тот самый процесс, которому посвящена знаковая и несколько сумбурная статья Романа Сенчина в «Литературной газете» — «Под знаком сочинительства». Роман Валерьевич полагает, что завершающееся десятилетие в русской литературе вывело на первый план беллетристику (для Сенчина явление скорее отрицательное), fiction, объемные жанровые романы и такие крупные имена, как Евгений Водолазкин и Гузель Яхина (в сочинительство, по Сенчину, двинулись и «новые реалисты» — Захар Прилепин, Андрей Рубанов, Сергей Шаргунов, Герман Садулаев). У Сенчина подобное явление — синоним надуманности и даже некоторой вымороченности; беллетристика выиграла, серьёзно подняв уровень, большая русская литература — проиграла.
Оценки Романа Валерьевича мне не близки, однако по сути он во многом прав — именно большие фабульные вещи, с чётким чертежом времени и пространства (пусть иногда условного), проектным отношением к стилистике, архитектурой бэкграундов и взаимоотношений, с установкой на понимание эпохи через искусство стройки и шитья характеров — определили лицо современной русской литературы. Достаточно назвать «Обитель» Захара Прилепина, «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной, «Лавра» Евгения Водолазкина и «Финиста» Андрея Рубанова; из свежего — «Уран» Ольги Погодиной-Кузминой и «Землю» Михаила Елизарова.
А пионером направления стал именно Гиголашвили в «Чёртовом колесе». Одиссее тбилисских ментов и воров, художников, бандитов, журналистов, цеховиков, номенклатурных работников и бездельников (всех объединяет пагубная страсть к наркоте) на фоне перестроечного 1987 года и гностического мифа с местным колоритом. (Кажется, это вообще характерное свойство большой грузинской прозы — мифопоэтические вставки, разбивающие основной текст, — так же сделан «Дата Туташхиа» Чабуа Амираэджиби). География обширна: Ленинград, Узбекистан, Кабарда, Амстердам, Германия (и, кстати, мой родной Саратов), соучастники — питерские проститутки, эмигранты из казахстанских немцев, тайские пушеры, мингрельские крестьяне…
Густонаселённая криминально-авантюрная сага, с изящно закольцованной композицией и щедрой нюансировкой, написана не просто великолепно и, я бы сказал, лихо (удивительно для вещи, над которой работалось два десятилетия), но с таким погружением в материал, что предполагать в профессоре филологии иной жизненный опыт и план кажется естественным. Пример его знаменитого земляка — Джабы Иоселиани, совмещавшего звания доктора той же филологии и вора в законе, легитимизировал подобные биографические парадоксы. К тому же Гиголашвили — знаток Достоевского, автор монографии о Федоре Михайловиче, чей персонаж свидетельствовал о чрезмерной широте русского человека… Не демонстрируя явного расположения или антипатии к своим героям, готовности клеймить, осуждать или принимать как есть жертву обстоятельств, он даёт читателю горькое право на симпатию, или — как минимум — понимание.
Механическая увлекательность чтения не отменяет многоуровневости романа.
Чудовищный размах коррупции и гнили начался с окраин Империи и предвосхитил общероссийскую ситуацию девяностых и нулевых — верхний слой. Интересней другое — «Чёртово колесо», иногда до полного дежа-вю, перекликается с русской литературой о гражданской войне (Бабель, Есенин, Шолохов и др.) — та же ситуация слома эпохи, смены «понятий», реанимации языка и схожее ощущение потери смысла дальнейшего существования, невозможности спрыгнуть и соскочить.
Между тем, сам автор продемонстрировал именно противоположный жест — роман, в котором центральная идея милости к падшим маскируется циничной иронией в духе чёрных комедий, а прочие мысли о времени и его сукиных детях уходят в подтекст, который нелегко зацепить, легко взломал границы жанра и не только дал вектор новому литературному десятилетию, но и — в немалой степени — стал истцом описываемой эпохи.
Если и будут когда-то в России и мире судить о перестроечной пятилетке всерьез, глубоко и долго, судьи обратятся, конечно, не к разоблачениям а-ля «Дети Арбата» и пр., не к постмодернистскому троллингу умиравшей Советской власти, но — прежде всего — к роману о природе и логике распада — «Чёртову колесу». Тут вам и литература, и социология, и физиология с антропологией.
Анаит ГРИГОРЯН, поэт, прозаик, литературный критик:
ТРИЛОГИЯ АЛЕКСАНДРЫ НИКОЛАЕНКО
 Сложно выбрать одну такую книгу, всё-таки десятилетие — это очень небольшой период в истории литературы, но весьма ощутимый, если говорить о продолжительности человеческой жизни. Я назову, пожалуй, трилогию Александры Николаенко, которая, по сути, является тремя главами единого текстового полотна: это романы «Убить Бобрыкина» (2017), «Небесный почтальон Федя Булкин» (2019) и «Муравьиный бог» (пока не издан). Роман «Убить Бобрыкина» посоветовал мне прочитать мой друг, писатель Даниэль Орлов: рекомендуя эту книгу, он назвал её «мощнейшей поэмой в прозе». Книгу я взяла, но долго её впоследствии не открывала, а когда открыла — уже не смогла оторваться и прочитала роман за два вечера. Меня на самом деле давно так не потрясал современный русский текст: в общем-то, мне понятно, почему прозу Николаенко кто-то обожает до самозабвения, а кто-то категорически не принимает: это такая новая искренность в современной литературе, пронзительно светлая и вместе с тем глубоко трагическая, такая обнажённая до самых болезненных нервов жизнь. На мой взгляд, это очень смелая литература, требующая отважного читателя — не каждому понравится, что автор выворачивает душу наизнанку — и свою, и читателя. Ну и вот я сейчас понимаю, что обязательно должна сказать ещё об одной книге, о романе «Контур человека: мир под столом» Марии Авериной, который в 2019 году был опубликован в издательстве «Эксмо» и сразу стал бестселлером, вызвав, в целом, похожую реакцию читателей: кто-то сразу эту искреннюю, но гораздо более спокойную, уравновешенную прозу Авериной принял, а кто-то категорически отверг. Интересно, что проиллюстрировала роман Марии Александра Николаенко, которая кроме того, что писатель, ещё и замечательный художник. Я честно признаюсь, что до появления в моей жизни текстов Николаенко и Авериной у меня было ощущение некоторого литературного одиночества: я могу назвать многих современных русскоязычных писателей, чьё творчество мне близко и чьи тексты для меня значимы, но мне всегда хотелось встретить автора, который бы не проводил ни малейшей искусственной грани между жизнью и литературой, и так получилось, что долго я этого автора не находила, а за последние два года открыла для себя сразу двух таких писателей, причём Николаенко, несомненно, уже настоящий мастер, а Мария Аверина ещё только в начале своего писательского пути, её роман — дебютный, но уже сейчас понятно, что это будущий серьёзный писатель. Так что, наверное, для меня важность этих текстов в литературном и личностном планах неотделима друг от друга. Если попытаться кратко сформулировать какую-то нашу общую концепцию, то она получится, на мой взгляд, несколько простоватой и даже сентиментальной: рассказать о человеческой жизни — самой простой, обыкновенной жизни, и найти в ней и добро, и надежду, и свет, вот даже в кажущемся совершенно беспросветным мраке, эту всепобеждающую любовь, которой даже смерть не страшна. И ещё, конечно, рассказать увлекательную историю, потому что какая литература без увлекательной истории — вообще, «увлекательность», от которой многие сейчас отворачиваются, считая её признаком литературы жанровой, важна для любой литературы. Чтобы читать книгу не через силу, потому что книга очень умная, и нужно во что бы то ни стало её дочитать, чтобы самому стать умнее, а чтобы хотелось перелистывать страницы одну за другой, пока не дойдёшь до финала и не огорчишься, что история такая короткая, хотя в истории-то — больше четырёхсот страниц. В этой связи, конечно, странно говорить о «кризисе культурного перепроизводства» — я не верю во всякого рода «кризисы» и в «перепроизводство» тоже. Как, впрочем, и в «общезначимость», потому что литература — она в принципе влияет на какую-то небольшую прослойку, просто даже если посмотреть на продажи издательств. А с другой стороны — нужна ли в принципе какая-то «общезначимость»? Конкретная книга может изменить жизнь конкретного человека, помочь ему, стать его верным другом, поддержать в трудной ситуации и дать надежду — это самое главное.
Сложно выбрать одну такую книгу, всё-таки десятилетие — это очень небольшой период в истории литературы, но весьма ощутимый, если говорить о продолжительности человеческой жизни. Я назову, пожалуй, трилогию Александры Николаенко, которая, по сути, является тремя главами единого текстового полотна: это романы «Убить Бобрыкина» (2017), «Небесный почтальон Федя Булкин» (2019) и «Муравьиный бог» (пока не издан). Роман «Убить Бобрыкина» посоветовал мне прочитать мой друг, писатель Даниэль Орлов: рекомендуя эту книгу, он назвал её «мощнейшей поэмой в прозе». Книгу я взяла, но долго её впоследствии не открывала, а когда открыла — уже не смогла оторваться и прочитала роман за два вечера. Меня на самом деле давно так не потрясал современный русский текст: в общем-то, мне понятно, почему прозу Николаенко кто-то обожает до самозабвения, а кто-то категорически не принимает: это такая новая искренность в современной литературе, пронзительно светлая и вместе с тем глубоко трагическая, такая обнажённая до самых болезненных нервов жизнь. На мой взгляд, это очень смелая литература, требующая отважного читателя — не каждому понравится, что автор выворачивает душу наизнанку — и свою, и читателя. Ну и вот я сейчас понимаю, что обязательно должна сказать ещё об одной книге, о романе «Контур человека: мир под столом» Марии Авериной, который в 2019 году был опубликован в издательстве «Эксмо» и сразу стал бестселлером, вызвав, в целом, похожую реакцию читателей: кто-то сразу эту искреннюю, но гораздо более спокойную, уравновешенную прозу Авериной принял, а кто-то категорически отверг. Интересно, что проиллюстрировала роман Марии Александра Николаенко, которая кроме того, что писатель, ещё и замечательный художник. Я честно признаюсь, что до появления в моей жизни текстов Николаенко и Авериной у меня было ощущение некоторого литературного одиночества: я могу назвать многих современных русскоязычных писателей, чьё творчество мне близко и чьи тексты для меня значимы, но мне всегда хотелось встретить автора, который бы не проводил ни малейшей искусственной грани между жизнью и литературой, и так получилось, что долго я этого автора не находила, а за последние два года открыла для себя сразу двух таких писателей, причём Николаенко, несомненно, уже настоящий мастер, а Мария Аверина ещё только в начале своего писательского пути, её роман — дебютный, но уже сейчас понятно, что это будущий серьёзный писатель. Так что, наверное, для меня важность этих текстов в литературном и личностном планах неотделима друг от друга. Если попытаться кратко сформулировать какую-то нашу общую концепцию, то она получится, на мой взгляд, несколько простоватой и даже сентиментальной: рассказать о человеческой жизни — самой простой, обыкновенной жизни, и найти в ней и добро, и надежду, и свет, вот даже в кажущемся совершенно беспросветным мраке, эту всепобеждающую любовь, которой даже смерть не страшна. И ещё, конечно, рассказать увлекательную историю, потому что какая литература без увлекательной истории — вообще, «увлекательность», от которой многие сейчас отворачиваются, считая её признаком литературы жанровой, важна для любой литературы. Чтобы читать книгу не через силу, потому что книга очень умная, и нужно во что бы то ни стало её дочитать, чтобы самому стать умнее, а чтобы хотелось перелистывать страницы одну за другой, пока не дойдёшь до финала и не огорчишься, что история такая короткая, хотя в истории-то — больше четырёхсот страниц. В этой связи, конечно, странно говорить о «кризисе культурного перепроизводства» — я не верю во всякого рода «кризисы» и в «перепроизводство» тоже. Как, впрочем, и в «общезначимость», потому что литература — она в принципе влияет на какую-то небольшую прослойку, просто даже если посмотреть на продажи издательств. А с другой стороны — нужна ли в принципе какая-то «общезначимость»? Конкретная книга может изменить жизнь конкретного человека, помочь ему, стать его верным другом, поддержать в трудной ситуации и дать надежду — это самое главное.
Булат ХАНОВ, прозаик, эссеист, лауреат премии «Лицей»:
ШАМИЛЬ ИДИАТУЛЛИН. «УБЫР»
 1. Хорошо, что я не состою в жюри книжных премий и конкурсов, потому что выбирать лучших — та ещё мука. Само появление заведомых и бесспорных лидеров противоречит логике как литературного процесса, так и любой отлаженной символической системы. Лучшего можно назначить, но не выбрать.
1. Хорошо, что я не состою в жюри книжных премий и конкурсов, потому что выбирать лучших — та ещё мука. Само появление заведомых и бесспорных лидеров противоречит логике как литературного процесса, так и любой отлаженной символической системы. Лучшего можно назначить, но не выбрать.
Если говорить о 2010-х годах, для меня особняком стоит роман Шамиля Идиатуллина «Убыр». Вряд ли авторитетный критик рискнёт сказать, что десятые годы в русской литературе прошли под знаком этой книги. Я же нахожусь в выгодной позиции, потому что моё мнение изначально рассматривается как частное, не отсылающее ни к каким инстанциям и потому ни к чему не обязывающее.
В своем романе Шамиль Идиатуллин показывает, что в современной действительности, оцифрованной и исчисленной, тем не менее зияют пустоты, которые нельзя заполнить ничем, кроме мифа. Еще со времён Фейербаха и Маркса известно, что отчуждение — это удел субъекта при капитализме, а в книге «Убыр» нам открывается, что человек современности — в силу избыточной озадаченности и выставленной перед собой, как щит, рациональности — отчуждён и от знания о тёмных силах, которые над ним властвуют. И преодолеть это отчуждение возможно лишь путём причащения к таким качествам, как смелость, честность, готовность жертвовать собой ради близких. В общем, к добродетелям, наивно понимаемым сегодня как наивные.
2. Слышал много лестных отзывов о прозе Шамиля Идиатуллина и о его романе «Убыр» в частности и, как человек мнительный и осторожный, искал весомого повода — того самого яблока, которое огрело бы меня по макушке. Не дождавшись, пошёл в магазин и купил книгу.
На «Ютубе» под клипами отдельных исполнителей или групп пишут «criminally underrated». Те же слова верно применить и к «Убыр»: в Татарстане этот роман преступно недооценён. Его не включают в школьную программу, не ставят на сцене, не обсуждают на телевидении. Да что там — о нём даже не говорят в казанском литературном сообществе. Между тем я не встречал ни одного другого прозаика, который бы так же оригинально и вместе с тем уважительно писал об истории татарского народа.
3. Вопрос об общезначимости, как и о любом слове с компонентом «обще-», лучше переадресовать философам. В первую очередь тем из них, кто хорошо разбирается в Гегеле, который и поставил вопрос о всеобщем на повестку дня. Я не уверен, что у меня хватит компетенции говорить об общезначимости либо о её отсутствии, это совсем не лёгкая тема.
Валерия ПУСТОВАЯ, прозаик, литературный критик, кандидат филологических наук:
ВЛАДИМИР МАРТЫНОВ. «КНИГА ПЕРЕМЕН»
 Я хотела бы назвать книгу, вышедшую в финал премии «НОС» в 2016 году, но по объёму и смыслу выпирающую из премиальной конкуренции и литературного процесса, потому что аналогов этой книге, пожалуй, нет. Между тем она одна может быть принята за концентрированный образец того, что происходило с литературой и пишущим человеком в 2010-е годы. Это полуторатысячестраничный том композитора и философа Владимира Мартынова «Книга Перемен» (М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2016).
Я хотела бы назвать книгу, вышедшую в финал премии «НОС» в 2016 году, но по объёму и смыслу выпирающую из премиальной конкуренции и литературного процесса, потому что аналогов этой книге, пожалуй, нет. Между тем она одна может быть принята за концентрированный образец того, что происходило с литературой и пишущим человеком в 2010-е годы. Это полуторатысячестраничный том композитора и философа Владимира Мартынова «Книга Перемен» (М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2016).
Механически эту книгу можно определить как сшитые вместе тоненькие книжки Мартынова, выпущенные ранее. Здесь мы найдём и «Время Алисы», и визуально-текстовую «Книгу книг», уводящую в молчание, и три мягких томика «Автоархеологии», и раннюю «Казус Vita Nova» и т.п. Но то, что это не механическое соединение ранее изданного в одном томе, доказывают не только дописанные главы и не только концептуально-игровая организация текстов в томе согласно гексаграммам китайской «Книги Перемен». Суть в том, как организуемся мы сами под этот отнюдь не стройный ряд текстовых отражений. Как в нас включается то читатель семейно-исторического романа о XX веке — а ведь это была одна из ведущих тенденций ушедшего десятилетия, с ним, с десятилетием, и уходящая, — то спутник автора по тропкам философского эссе, то онемевший созерцатель, то словоохотливый товарищ по воспоминаниям — о местах силы, об импринтингах детства и молодости, о советских десятилетиях и протестной волне, — то ревнивый критик-полемист, отслеживающий не моргая иррациональные доказательные ходы автора, основывающего свои искусствоведческие суждения на искрометных обобщениях творчества пары-тройки гениев от Леонардо до Дюшана.
Мартынов вошел в мою жизнь как едкий — и отнюдь не печальный, нет, — провозвестник конца литературы. Он проговорил для меня то, чем я неясно, не осознаваемо начала уже мучиться к моменту встречи с его книгой «Пестрые прутья Иакова»: чувство зряшности экстенсивного прироста литературы, пустоты праздника новых книг. Его идея конечности этого праздника, мысль о том, что не во всякую эпоху возможен великий русский роман, убедила меня и убила. Чтобы затем — возродить.
В этом вся соль философии Мартынова, если смотреть на неё как на действенную модель отношений с искусством, если читать дальше простых и для культуры не новых манифестаций конца. В его исполнении идея конечности приобретает жизненный, живительный смысл: нужно по-настоящему пережить конец прежнего в культуре, чтобы расслышать и рассмотреть новое.
Именно благодаря ему я наконец приняла близко к сердцу и сделала основой внутреннего суждения о тексте чувство живого и мертвого в искусстве. Хотя впрямую он об этой антиномии не говорит. Он говорит скорее о формах, не наполненных жизнью.
Презентация «Книги Перемен», помню, случилась в Коломне, в стенах монастыря. Рано утром надо было выдвинуться на другой конец Москвы, чтобы сесть в маршрутку, дотрястись до трапезной, потом долго бродить среди живописных заборов и в монастырском саду, осмотреться на выставке современного искусства и наконец дождаться пространного разговора в аскетичном зале. А у меня накануне сложная операция на зубе, всю ночь не спала, рыдала над тоскливым мультсериалом и дома не могла даже выпить арбузного сока. Но потащилась. И на презентации после речи Мартынова странным образом ожила. Он действует так потому, что не тянет в жизнь, не выдает списков восторга, не делает рекомендаций. Он как писатель и философ принимает само движение жизни и её полноту как цельный иероглиф, который не поддается прочтению, толкованию, только — вбиранию, созерцанию, пребыванию с ним. Потому что если полнота откуда-то уходит, значит, она приходит куда-то ещё, и за этим движением жизни можно только следовать. И полноту этого пребывания в моменте жизни там, в Коломне, на самой причудливой презентации он мне вернул.
Считаю ли я эту книгу общезначимой? Безусловно, хотя уверена, что это чтение доступно для посвящённых: весть о Мартынове как явлении литературы и мысли распространена не широко. Только что я слушала прения членов жюри премии «ФИКШН35» — новой премии для писателей до тридцати пяти, — и отметила для себя конкуренцию двух принципов оценки: «личной истории», когда «зацепило меня», и пресловутых «критериев» «важной» для всех книги. Эти принципы в самом деле не всегда совпадают, но, как мне кажется, отделить существенность явления от своего эмоционального отношения к нему возможно. Общезначимость — проблемный критерий в эпоху развала общностей, или в эпоху общностей малых. Но можно говорить, что книга (книги) Мартынова значимы для общности людей, чья реализация и, больше, полнота существования связаны с мыслью культуры о себе, с выживанием творящей силы и художественной правды в искусстве. И эта книга ушедшее десятилетие, уверена, переживёт.
Ольга БУГОСЛАВСКАЯ, литературный критик, кандидат филологических наук:
ВИКТОР ПЕЛЕВИН «IPhuck 10»
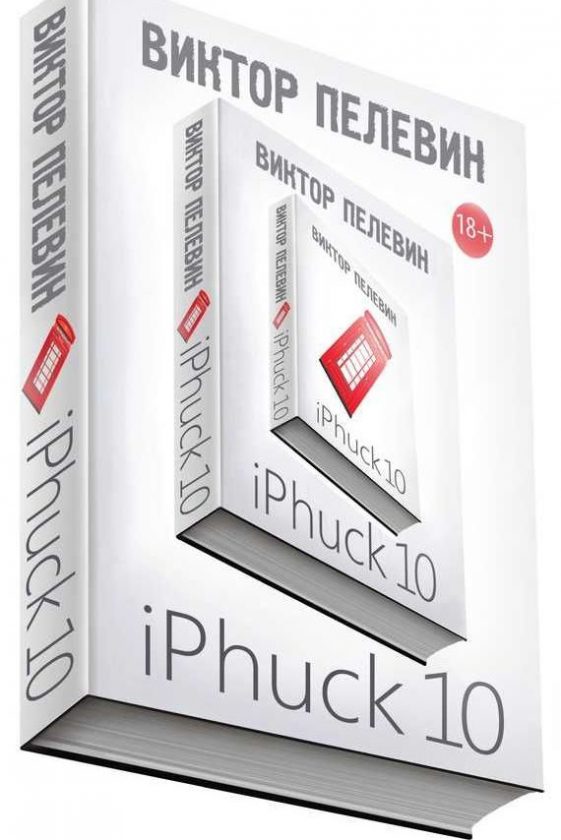 Я бы назвала книгой прошедшего десятилетия роман Виктора Пелевина с вызывающе неприличным, но очень ёмким и метким названием «IPhuck 10».
Я бы назвала книгой прошедшего десятилетия роман Виктора Пелевина с вызывающе неприличным, но очень ёмким и метким названием «IPhuck 10».
Честно говоря, к моменту выхода этого романа я уже перестала ждать от Виктора Пелевина чудес и откровений, поскольку их, на мой взгляд, не было с 1999 года, когда вышел его предыдущий стопроцентный шедевр — роман «Generation П».
Бывают периоды, когда общезначимых явлений нет. Публика делится на группы, все расходятся по своим углам, собираются по интересам, и в каждом кружке образуются свои значимые явления. Если провести параллели с музыкой, то у любителей джаза — свои кумиры, у любителей рэпа — свои, рока — свои, классики — свои и так далее. Но потом появляется условный Майкл Джексон или Лучано Паваротти, который перерастает свои рамки и становится значимым более или менее для всех. И если такой Майкл Джексон есть, то вы его ни с кем не перепутаете. Даже если лично вам он не очень нравится. И как бы вы не стремились исключить «короля поп-музыки» из поля своего зрения, он всё равно будет маячить на вашем горизонте. Далеко не все его альбомы и концерты удачны и равноценны. Случаются и проходные выступления, и даже провалы. Но при всём том, пока не наступит смена вех, он останется на первых ролях.
Проблема национальных литературных премий состоит, на мой взгляд, в том, что члены их жюри пытаются выдать или вынуждены выдавать достижения локальные за общезначимые. Эти локальные достижения, иногда действительно замечательные и очень важные, в силу разных обстоятельств не соответствуют тому масштабу, который им стараются придать. Это всегда заметно.
Пример звезды мирового уровня — Стивен Кинг. Мы же с вами в родном отечестве продолжаем жить в литературную эпоху Пелевина и Сорокина. Если книга истекшего десятилетия — «IPhuck 10», то предыдущего — «День опричника» и «Сахарный Кремль», а ещё более раннего — «Generation П». Пелевин и Сорокин — это Толстоевский наших дней. Рискну предположить, что именно их произведения, что называется, останутся потомкам и войдут в будущий мастрид. Если в последующие годы кто-то подробно заинтересуется нашим временем, то, безусловно, сможет найти много интереснейших литературных явлений и выдающихся имён. Но не будем обольщаться — не заинтересуется (по крайней мере, интересующихся не будет много). Для всех, кто не захочет входить во все подробности, достаточно будет пары-тройки книг Пелевина и Сорокина, чтобы составить о нас отчётливое и достаточно полное представление.
Часто говорят о том, что Сорокин-Пелевин давно устарели и с момента их успеха уже неоднократно произошла смена поколений. Увы, она не произошла. Звёзд равной величины на нашем небосклоне так и не появилось. Если они вдруг зажгутся — мы их увидим. Явление Сорокин-Пелевин зародилось ещё где-то в недрах жёстко регламентированной и стиснутой со всех сторон советской культуры. Можно сказать, что это мощный взрыв, произошедший в результате сильного сжатия. Дерзость, бескомпромиссная смелость, остроумие, точность, проницательность, умение с помощью одной метафоры дать формулу времени или целой исторической закономерности, великолепные цинизм и высокомерие, которые довольно часто и всегда неудачно пытаются имитировать другие писатели, — авторские качества и свойства прозы, производившие ошеломительное впечатление в начале 90-х. Этого заряда хватает до сих пор. Возможно, постсоветские условия тоже произведут когда-нибудь похожий взрыв или какой-нибудь другой сильный эффект. Будем ждать. Но поскольку постсоветские условия всё больше напоминают советские, то и запрос на Сорокина-Пелевина остаётся актуальным.
Мария БУШУЕВА, прозаик, литературный критик, эссеист:
1-3. Одну такую книгу выделить не могу. Талантливые — конечно, были. А талант всегда радует.
Об общезначимости любой книги сейчас говорить невозможно, поскольку ситуация, когда читающей аудиторией была только культурная часть общества, давно ушла в прошлое: с общей грамотностью (что, разумеется, плюс) стал доминировать массовый читатель (что, разумеется, минус), который всегда выберет «Пятьдесят оттенков серого», а не Платонова.
Окончание следует…
Спасибо за то, что читаете Текстуру! Приглашаем вас подписаться на нашу рассылку. Новые публикации, свежие новости, приглашения на мероприятия (в том числе закрытые), а также кое-что, о чем мы не говорим широкой публике, — только в рассылке портала Textura!




