Насколько действенна и реальна создаваемая поэтами картина мира?
8 ноября 2019 года в литературном клубе Людмилы Вязмитиновой «Личный взгляд» состоялся круглый стол по итогам проведённого 25-26 октября фестиваля «Поэзия со знаком «плюс»». Отправной точкой дискуссии послужила статья, с которой можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Участники:
Александр БУБНОВ — поэт, филолог, доктор филологических наук;
Татьяна ВИНОГРАДОВА — поэт, филолог, редактор, дизайнер, кандидат филологических наук, член редколлегии международного альманаха «Новая среда»;
Марина ВОЛКОВА — издатель, культуртрегер (заочное участие);
Людмила ВЯЗМИТИНОВА — поэт, литературный критик, культуртрегер, куратор литературного клуба «Личный взгляд»;
Анна ГОЛУБКОВА — поэт, прозаик, филолог, кандидат филологических наук, редактор журнала «Артикуляция»;
Надя ДЕЛАЛАНД — поэт, филолог, эссеист, арт-терапевт, кандидат филологических наук;
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ — поэт, прозаик, журналист, редактор журнала «Южное сияние»;
Данила ИВАНОВ — поэт, журналист;
Валерия ИСМИЕВА — поэт, литературный критик, культуролог, искусствовед, кандидат философских наук;
Леонид КОСТЮКОВ — поэт, прозаик, литературный критик;
Борис КУТЕНКОВ — поэт, литературный критик, культуртрегер, обозреватель, редактор отдела науки и культуры «Учительской газеты», редактор отдела критики и эссеистики портала «Textura»;
Екатерина ЛИВИ-МОНАСТЫРСКАЯ — поэт, литературный критик.

Людмила ВЯЗМИТИНОВА (из анонса к круглому столу): Одна из клубных встреч литературного клуба «Личный взгляд» была посвящена дискуссии (с чтением своих и не своих стихов) вокруг вопроса «Какое эмоциональное состояние чаще всего передают стихи — счастья (умиротворенности, внутреннего покоя и т. д.)» или несчастья (дискомфорта, отчаяния, гнева и т. д.)». Итог дискуссии был со знаком «минус»: чаще всего стихи передают состояние, далёкое от счастья, умиротворённости и внутреннего покоя и т. д. Тогда был поднят следующий вопрос, на который собравшиеся не нашли ответа: а не занимаются ли в таком случае поэты закреплением отрицательной картины мира — с программированием её на будущее? Эта тема получила продолжение — сначала в виде чтений стихов, которые — по мнению автора — передают состояние счастья — настоящего дня или транслируемого в будущее, — а затем появилась идея фестиваля.
В своих стихах поэты создают картину мира — радостную или безрадостную (гармоничную или дисгармоничную — в той или иной степени и т. п.). А поскольку поэтическое слово обладает огромной силой, то создаваемая поэтами картина мира закрепляется в сознании и программирует будущее. При этом истинные шедевры, отнюдь не рисуя окружающее в радужных красках, как правило, несут в себе заряд стоического принятия мира таким, какой он есть, — с растворённой в его глубине непостижимой для человека тайной переплетения добра и зла.
Мы приветствуем поэзию, которая — по мнению авторов — передаёт испытанные ими состояния счастья (как полноты бытия, радости, внутреннего покоя, примирения с миром и т. д.). Однако «Поэзия со знаком «плюс» включает в себя тексты гораздо более широкого диапазона — вплоть до содержащих в себе передачу состояний горя и разлада с внутренним или внешним миром и т. д., НО как преодолимые, трансформируемые, включённые в общую картину жизни как необходимые для её течения факторы, а не превалирующие и определяющие жизнь и картину мира.
Вопросы к круглому столу:
1. «Из какого сора» растут поэтические строки? Можно ли его как-то классифицировать?
2. Чем поэт отличается от всех прочих людей? Являются ли эти отличия константой по отношению ко времени?
3. Действительно ли состояния горя, несчастья, разлада с внутренним и внешним миром более продуктивны — чем альтернативные им — для написания поэтических строк? Является ли это обстоятельство константой по отношению ко времени?
4. Относится ли сформулированный в третьем пункте вопрос только к высокой лирической поэзии?
5. Относится ли сформулированный в третьем пункте вопрос к авангардной и экспериментальной поэзии?
6. Как можно сформулировать итоги первого фестиваля «Поэзия со знаком «плюс»?
Видео чтений можно посмотреть здесь:
1. Чтение первого дня — 25 октября;
2. 1 часть второго дня — 26 октября;
3. 2 часть второго дня — 26 октября.
Л. В. (вступление): В нашем клубе прошли сначала чтения, потом фестиваль под названием «Поэзия со знаком «плюс» (запись фестивальных чтений есть в сети). И пока готовился этот круглый стол, в мой адрес поступило некоторое количество неодобрительных замечаний о том, что нельзя вводить такой термин — «поэзия со знаком «плюс». Однако я в своих публичных выступлениях много раз говорила о том, что литературная критика, в отличие от литературоведения, — не наука, а вид художественного творчества. Она прежде всего задействует творческую интуицию, хотя и опирается на критерии, постулируемые литературоведением. Поэтому для разговора, точнее, беседы в профессиональном кругу о том, что происходит в нашем литературном процессе и в культурной ситуации в целом, этот термин достаточно корректен. Фактически он предполагает вынесение за скобки тех текстов, которые эмоционально опускают человека, внушают ему, что жизнь беспросветна. «Поэзия со знаком «плюс» предполагает не бравурность и хлопанье в ладоши, а тот факт, что автор текста после переживаний своих столкновений с отрицательными сторонами жизни, упрощённо говоря, осмысляет их как данные ему жизненные уроки, а образно говоря, чувствует, что, как писал Анненский, «быть может, грязь и низость только мука / по где-то там сияющей красе». Для меня ориентиром при размышлениях на эту тему было стихотворение Лермонтова «Выхожу один я на дорогу…»: оно пронизано мудростью, пришедшей после много и тяжело пережитого. Ведь в конце концов приходишь к тому, что взаимоотношения между добром и злом являются таинством: в контексте жизненных событий не так просто определить, что хорошо, а что плохо. Понимание этого нужно для того, чтобы иметь некие ориентиры для действия, но человек устанавливает их прежде всего для себя. Как писали братья Стругацкие, «там, где общий принцип сталкивается с принципом личным, — там кончается жизнь простая и начинается сложная». «Не убий» — а как «не убий», если, скажем, на твоих глазах насилуют жену? Всё в этой жизни определяется контекстом, и само литературное произведение тоже существует в контексте. И я согласна с известным и ныне, увы, покойным филологом и литературоведом Борисом Дубиным, который говорил, что литературный критик занимается только одним — «вставляет» произведение в контекст: литературный, культурный, социальный.
Что касается картины мира, которую создаёт в своих текстах поэт, я как литературный критик и как человек, пишущий стихи, полагаю, что именно поэтические строки более всего имеют шанс как бы проникнуть в голову того, кто их услышал или прочел, и начать там работать. И говорить, что стихи не подвигают человека к осмыслению своей жизни, восприятию жизненных законов, к выбору решений и действий, я бы поостереглась. В нашем языке есть выражение «грузить» кого-то чем-то, а англоязычные люди прямо говорят: класть ему в голову. А поэтические строки — это особым образом организованная речь, в отношении проникновения в голову особо опасная. Сейчас у нас на каждом шагу психологические консультации, скоро каждый сам себе будет не только поэт — к этому мы точно движемся, — но и психолог, а любой психолог начинает с того, чем у человека наполнена голова и душа, с того, что влияет на его мировоззрение. Однако я не настаиваю ни на одном своём слове: мне интереснее услышать мнения других и понять, что стоит за процессом восприятия поэтических строк. Что мы «грузим в голову» тем, кто слушает и читает наши вирши?

Леонид КОСТЮКОВ: Чтобы наши выступления не превращались в обмен монологами, я сперва скажу, что мне близко, а что не близко в словах Люды. О том, что критик «вставляет» или «вводит» «в контекст»: мне кажется, очень мощная опция критика — не «вводить» что-то в контекст, это очень важно. И то, что он не «вводит» что-то, то есть делит на «да» и «нет», — едва ли не важнее в его работе, чем «вводить». Вторая мысль — про слово «катарсис». Если пользоваться математическими категориями, «есть катарсис» или «нет катарсиса» — это ось Y, ось ординат, а «поэзия со знаком «плюс» или «поэзия со знаком «минус» — это ось X, ось абсцисс.
Далее у меня три мысли, одна из них очень банальная. Банальная мысль — что писатель имеет за свои тексты нулевую ответственность, в отличие от беллетриста. А беллетрист имеет очень большую ответственность, так как он «окучивает» малых сих — тех, кто, может быть, не дорос до чего-то большего. В противоположность этому, круг тех, кого «окучивают» Веденяпин, Айзенберг или Гандлевский, с одной стороны, узок, с другой, элитарен: это люди, которых уже с толку не сбить, поэтому поэт имеет право на всё. А вот поэты-песенники — или, скажем, Вера Полозкова или Сола Монова — как раз более ответственны за то, что они пишут, в силу своей сферы влияния.
Следующая мысль — о том, что автор и воспринимающий встречаются в некоей точке. Важно, куда автор двигает эту точку: у стихотворения есть какой-то маршрут, но это маршрут мгновенный. Если автор берёт внизу и тащит вверх, это хорошо, а если берёт вверху и тащит вниз — это, конечно, нехорошо.
И ещё: лет двадцать пять назад я был абсолютным оптимистом — если у меня всё было неважно, я всё равно верил, что всё отлично (а у меня и было всё отлично). Тогда я открыл Георгия Иванова, который стал главным поэтом для меня. Иванова принято называть скептическим поэтом — никто не скажет, что он оптимист. И механизм воздействия на меня Иванова был таким: словно передо мной было довольно много карт рубашкой вверх, которых я не вижу, а Иванов открывал их — и я видел эти карты. Иногда, когда я видел их, они казались мне мрачными или угрюмыми, но всегда с надеждой. Надежду внушал сам жест открывания карты, которая всегда была передо мной. Это влияние великого поэта, мне кажется, не со «знаком «плюс» или со «знаком «минус» — оно со знаком открытия тех карт, которые лежат перед твоим носом. И это только усилило мой оптимизм. Мне кажется, главное назначение поэта — сказать, что многое неважно по сравнению с тем, чего нельзя назвать. Это «многое неважно» много раз меня потом вытаскивало.
И ещё, никого не хочу обидеть, но литературоведение — это лженаука.
Александр БУБНОВ: Сегодня есть точнейшие методы лингвистического анализа.
Леонид КОСТЮКОВ: Они не имеют отношения к качеству.

Анна ГОЛУБКОВА: О природе гуманитарного знания много писали 100 лет назад представители «немецкой школы», и они установили, что гуманитарный факт — не то же, что естественнонаучный факт. Гуманитарный факт существует как некоторое количество интерпретаций, и в сложной математической конструкции он может быть описан.
Людмила ВЯЗМИТИНОВА: Сейчас мы послушаем выступление Марины Волковой, которая не литературовед, не поэт, она издатель. Издатель у нас в последнее время стал главным лицом в литературном процессе: часто он решает, быть или не быть поэту опубликованным, — по крайней мере, на бумаге.
Видео выступления Марины Волковой:

Александр БУБНОВ: На фестивале Людмилы мне более всего понравилось выступление поэта Светы Литвак. И вдруг я нахожу в Сети информацию о том, что 24 сентября 1999 года, ровно 20 лет назад, в салоне «Премьера», в рамках Первого Международного фестиваля поэтов был вечер, который называется «Счастье и радость в современной лирике», на котором тоже выступала Света Литвак. И мне бы хотелось прочитать цитату из манифеста Николая Байтова, предваряющего этот вечер, из «Литературной жизни Москвы»: «Мажорное звучание стиха уже давно и прочно дискредитировано в нашем эстетическом сознании. Эта дискредитация производилась по разным направлениям: начиная с Козьмы Пруткова, которого некоторые считают предшественником обэриутов, и заканчивая официальной поэзией советского периода, дискредитировавшей саму себя, во-первых, а во-вторых, перелицованной в сатиру и юмор в нашем политизированном концептуализме. Нынешние поэты все как один становятся в тупик перед вопросом: каким образом радость и счастье отражены в их поэзии? Им кажется, что этих чувств они вообще не испытывают и не излагают, однако этого просто не может быть по человеческой природе. Для нас несомненно, что поэтика радости и счастья существует, но в виде не только никак не описанном, но даже не осознанном. Задача нашего вечера — попытаться услышать и понять, как, на каких правах и с помощью каких средств эти фундаментальные человеческие состояния входят в лирическое высказывание». На этот фестиваль откликнулась газета «Коммерсант» таким заголовком: «Из поэтов счастливы только женщины и дети». Автор статьи Марина Шимадина писала о минорной тональности прозвучавшей на фестивале поэзии. «Исключением были женщины — Света Литвак, Фаина Гримберг — и дети (почему «дети», я не знаю. — А. Б.): Санджар Янышев, Вадим Муратханов (вероятно, ещё и потому, что к моменту проведения фестиваля упомянутым было чуть больше двадцати лет. — Прим. ред.), которые говорили: «У нас в Узбекистане время течёт медленно, как бывает в детстве, поэтому все мы — дети»». И вот через двадцать лет Света Литвак снова выступила в рамках этой же темы — и снова была исключением.
А вообще, язык — саморазвивающаяся и в этом смысле самая «оптимистичная» система, за которой мы идём, выступая в каком-то смысле фиксаторами. Сама культурная ситуация требует от нас уточнения терминов, которые не таковы, какими были даже пять лет назад. Радость за слово и радость перед словом — это и есть самая главная радость бытия. Слово, я имею в виду, с большой буквы, — может быть, Логос.

Татьяна ВИНОГРАДОВА: По моему глубокому убеждению, поэт своим творчеством никак не может «программировать будущее». Ни в позитивном, ни в негативном ключе. Сама постановка вопроса подобным образом отсылает нас к старинному и неразрешимому «спору о первичности».
Если встать в этом споре на идеалистические позиции, то лучшим ответом (и примером того, как логос может моделировать реальность) станет давний пелевинский рассказ «Оружие возмездия». Ну и, разумеется, библейского «и слово было у Бога, и слово было Бог» в данной ситуации тоже никто не отменял. Вопрос в том, насколько такая постановка вопроса правомерна и какое отношение эти умозрения и/или вопросы «прыжка веры» имеют к литературе.
Ответы на вопросы к круглому столу:
1. «Из какого сора» растут поэтические строки? Можно ли его как-то классифицировать?
Полагаю, что создание стихотворения — процесс загадочный и трансцендентный автору. И еще полагаю, что понятие «сор» (ставшее слишком общим местом) здесь далеко не всегда применимо. «Стихи растут, как звёзды и как розы…» — вот это, пожалуй, точнее. Классифицирую: «мы созданы из вещества того же, что наши сны». Стихи растут из подсознания. Которое помойкой не является. Говорить же о генезисе креативности считаю здесь неуместным. Это тема для трудов по психологии творчества. Как поэт я могла бы ответить, но это будет узко и субъективно, исключительно про Татьяну Виноградову. Как литературоведу мне гораздо интереснее анализировать сумму приёмов, используемых автором, а не соблазнительные категории, такие, например, как «дословесное», «послесловесное» и т.д. Хотя то, что в любом настоящем стихотворении присутствует некая (полумистическая) «жизнестроительная энергия», несомненно.
2. Чем поэт отличается от всех прочих людей? Являются ли эти отличия константой по отношению ко времени?
«Отличительной чертой кадета Иванова следует признать его болезненную нервность и апатию… Общее впечатление какого-то нравственного и физического калеки», — из характеристики Георгия Иванова, данной ему в кадетском корпусе.
Поэт во все времена — человек с гипертрофированным эго и аномальной чувствительностью к миру. И он, в отличие от прочих эгоцентриков, вроде Наполеона, умеет играть лишь в слова, а не в солдатиков. Поэту надо своё переразвитое «я», равно страдающее и от горя, и от счастья, куда-то канализировать. Иначе его личность взорвётся. Вот он и пишет, бедолага. Правда, потом его слова могут повлиять и на солдатиков, и на Наполеона… А вообще-то по данной теме см. текст Пушкина А. С. «Поэт» («Пока не требует поэта / К священной жертве Аполлон…»).
3. Действительно ли состояния горя, несчастья, разлада с внутренним и внешним миром более продуктивны — чем альтернативные им — для написания поэтических строк? Является ли эти обстоятельство константой по отношению ко времени?
Для меня лично — да, страдания более продуктивны для творчества. Всегда. Во все времена. Похоже, так у многих. Ярчайший пример — Цветаева. Но страдания (и противоположные им чувства) должны быть отрефлексированы: «Прошла любовь, явилась муза».
4. Относится ли сформулированный в третьем пункте вопрос только к высокой лирической поэзии?
Мне очень странно подобное классицистическое разделение жанров. Поэзия есть поэзия есть поэзия. Поэзия есть. Стихи либо являются ею, либо нет. Сатира тоже может быть высокой. Всё лучшее рождается на стыках родов и жанров. Кстати, известно, что сатирики в жизни зачастую очень мрачные люди. Ещё раз: поэтические строки могут рождаться из каких угодно эмоций (и, конечно же, не только и не столько из них), но почему при этом надо выделять отдельные жанры как «более равные»?
5. Относится ли сформулированный в третьем пункте вопрос к авангардной и экспериментальной поэзии?
См. предыдущий ответ. И, кстати: во времена Тредиаковского и Ломоносова силлаботоника была крутейшим авангардом. Верлибр Уитмена был экспериментом. Мне не важен сейчас вопрос генезиса, мне абсолютно непонятно вот это вот членение: тут у нас высокая лирика, а тут вот, в этой витринке, — сатира, а в комоде шебуршатся авангард с экспериментом. Их, мол, возможно, чертят по иным лекалам. С моей точки зрения подобная постановка вопроса граничит с абсурдом.
6. Требует ли уточнения определение «Поэзии со знаком плюс»?
О да. Необходим анализ данного определения, нужны чёткие формулировки. Пока что это скорее эмоциональная оценка, а не научный термин.
7. Как можно сформулировать итоги первого фестиваля «Поэзия со знаком «плюс»?
Прекрасно, что фест состоялся, люди выступили, конкурс прошёл. Любой движ в нашей сегодняшней литературной ситуации прекрасен.

Надя ДЕЛАЛАНД: Маленькая ремарка: понятия «бессознательное» и «подсознание» — из разных областей. Подсознание — это термин из психоанализа, отцом которого был Зигмунд Фрейд. В подсознание уходят содержания сознания, не прошедшие цензуру super-ego, морали, поэтому вытесненные, подавленные, болезненные, а бессознательное — термин аналитической психологии, с которой связано имя К.-Г. Юнга. Он говорил о сокровищах, хранящихся в бессознательном, и называл его Богом, это что-то более мистическое. Их странно путать. И для меня, конечно, объём понятия «поэзия» больше связан с бессознательным. Я согласна с Мариной Волковой в том, что тема не имеет значения, но, на мой взгляд, не имеет значения и её освоение. Важен один талант. И если мы говорим о том, как действует поэзия на читателя, приносит ли она, грубо говоря, пользу или вред тем, что насаждает нам что-то в сознание, то для меня здесь не всё так однозначно. В течение четырёх лет я работала в психиатрической клинике, и у меня сложилось стойкое впечатление, что у нас есть некое поверхностное представление о том, что стихи, которые содержат в себе что-то позитивное, действуют на человека хорошо. Но на практике оказывается, что это всё не вполне так, потому что когда человек находится в сложной жизненной ситуации, в духовном кризисе — умер близкий человек, расстался с любимым, — то «позитивные» стихи его не спасают, а скорее раздражают. И наоборот, удивительным образом стихи, которые написаны поэтом о боли, начинают вдруг работать. И за счет того, что горе объективируется, — как в древнегреческой трагедии — возникает тот самый катарсис. Так что бывает по-разному. Действие поэзии связано с тем особым состоянием сознания, в котором находится поэт, когда он пишет стихотворение. И если стихотворение талантливое, то оно будет хорошим каналом для передачи этого состояния. Хотя, разумеется, всё ещё зависит и от настроя читателя, его готовности это состояние воспринять. За счёт того, что человек выходит в это измененное состояние сознания, и совершается его исцеление. Причём это происходит не потому, что в стихотворении есть выход из сложной ситуации и её преодоление, а потому что человек как бы поднимается над ситуацией. Как говорил Эйнштейн: чтобы решить проблему, надо решать её не на том уровне, на котором она возникла. То есть ты выходишь за пределы себя, смотришь со стороны на то, что с тобой происходит, и одно это уже помогает. Писатель Александр Мелихов в своё время работал с людьми, которые совершали попытки суицида. И в процессе общения он понял, что крайне важно дать почувствовать человеку, что с ним произошло нечто очень значительное и красивое, найти какие-то аналоги в литературе, культуре. И поэзия тоже в каком-то смысле это делает. Она возвышает твое несчастье, коль скоро речь об этом, эстетизирует его, и этим тоже объясняется её целительный и преображающий потенциал.
И ещё я хотела сказать об одном своём опасении, возможно напрасном. С одной стороны, здорово, что высвечивается эта область, — «Поэзия со знаком «плюс». Интересно её просто увидеть и описать. Но с другой стороны, если говорить этому всему «да», то оно может иметь плохие последствия для поэзии, которая не вписывается в эти рамки. И тогда возникает такой shame: «ты насаждаешь депрессию, ай-яй-яй». Не обязательно такое произойдёт, но в контексте разговора это где-то маячит.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ: Темой нашего разговора задан диалектический подход: «чёрное — белое», «холодно — горячо», а беседа наглядно показывает, что мы в наших рассуждениях не диалектичны, у нас системный подход. И мне это ближе, так как всё, что связано с полифонией, — для беседы благо.
Тема наша меньше интересует меня с точки зрения литературной, а интересует, прежде всего, как явление социального и, во вторую очередь, как явление медицинского свойства. Мне приходилось работать с «литературно озабоченными» пациентами в психоневрологическом диспансере, и этот опыт говорит, что тема, поставленная Людмилой, очень важная. Она помогает понять, что обеспечивает появление у писателя своего голоса, появление стиля, почему невротик чаще обращается к литературе, читает и пишет, чем спокойный уравновешенный человек. И как литературный нерв связан с жизненным нервом мира, в котором развивается писатель…
Литературный язык и разговорный язык — явление живое, саморазвивающееся, и когда мы осваиваем язык, «рождаясь» в этот мир, мы сталкиваемся с тем, что нам не только мама и папа показывают и называют вещи и явления мир, а и ребёнок, осваивающий мир, соучаствует в этом процессе. И лучше, талантливее ребёнка не бывает ни слушателя, ни читателя взрослого… В человека, ещё не умеющем читать, уже заложена опосредованным контактом со словом способность к чтению, а способность к чтению предполагает способность к творчеству, всё это взаимосвязано. И поэтому ребёнок — как явление и социального порядка, и литературного, очень интересен в процессе освоения языка и с помощью языка — мира, и нагляден процесс развития, становления творческих возможностей… Паустовский писал, что «ребёнок — это поцелуй, затребовавший вечности». О, с этим — конечно же, к поэтам, литераторам, в ту область прямой посыл!
Следующий момент: здесь прозвучало, что программирование и моделирование не является предметом литературы и вообще творчества. А вот я очень жалею, что я не губернатор. Была бы губернатором, создала бы специальный институт литераторов в своей губернии. Пусть бы писали, кто во что горазд, — ведь литераторы естественные аналитики и люди, моделирующие процессы жизни, надо бы внимательно начальникам над людьми отслеживать, изучать — и грамотно работать с текстами писателей и поэтов своих регионов! Как правило, они ясно видят и ясно излагают, талантливые литераторы — и их надо бы холить!
Сейчас много литературных студий, «их всегда есть» — так легче находить талантливых авторов, легче создавать условия для пишущих и легче (увы, на наши головы) — контролировать их. Хорошо бы ещё озаботились начальники над литераторами — с помощью материальной пишущему народу.
Прекрасный поэт Александр Величанский в стихотворении «В чернозём смертей посеяно…»
В чернозём смертей посеяно
и грехом воспалено —
не искусство, а спасение,
нет — виновности вино.
Что ж мы ждём от вопля, лепета,
наши души разгласив:
красота сама бестрепетна,
трепет груб и некрасив.
заметил, что искусство обладает свойством спасения души, и тонкие материи, задействованные творчеством, — очень влияют на состояние жизни нашей. Человек — каждый — носит в себе свою трагедию, созревая до неё, не всегда умея справиться, — пишущий человек имеет возможность, шанс — найти выход и помочь читателю — разобраться со сложностями мира, поэт учит человека не поэта — новым возможностям общения и в мире и новым возможностям освоения мира. Говорят много о проблеме вдохновения, но у поэта есть секреты — и вдохновение для многих не проблема, а явление порядка чудесного. Ведь у каждого есть ключ к своему слову, своему ритму-метру… Поэт Ирина Ратушинская говорила мне, что она умела включать «кайфоловку» — сосредоточившись, как йог, на пупке — и когда она сидела в карцере (Ирина была в советское время осуждена за антисоветские стихи) — она умела входить в состояние, когда границы карцера раздвигались, и она ощущала себя счастливой и живущей в слове, так же об этом состоянии подключения в «жизни словом и в слове», о расширении границ сознания и своей личной свободы даже в тюрьме — писал и Мохандас Ганди.
Вот и из таких напрягающих ситуаций — иногда начинаются стихи и выживание с их помощью. В тебе происходит какой-то щелчок, и ты начинаешь писать, — а потом оказывается, что ты не сам пишешь, за тебя как бы пишут силы небесные — ты к ним подключен! Или сам генерируешь… У Величанского «ключом» было осознание своей греховности через боль, а у кого-то это радость. А иногда бывает состояние «всё хорошо» — вы сидите в горах, в лесу, на берегу озера, тишина и понимаешь вдруг — а природе всё равно, и это всеобщее равнодушие красоты — пугает, пугает понимание своего онтологического одиночества — изыми тебя отсюда, из этой окружающей и равнодушной к тебе красоте — и всё будет, как ты видишь, как есть, а тебя не будет. Подступает отчаяние. Возникнуть может проблема, с которой можно оказаться в психоневрологическом диспансере, и ты удивлённо, и встревоженно говоришь: «Доктор, мне плохо, я не понимаю, что делать — а я обязан знать, что я делаю, когда пишу, ведь во мне это что-то, что больше меня — включается».
А что ты делаешь, когда пишешь стихи? Ты работаешь, ты сгущаешь жизнь, ты решаешься шагнуть в неизвестное, даже в ту область, что трагедией зовется, а эта область добровольцев не знает. Но ты шагаешь! И мир боли и прозрений тебя принимает, поэт дорастает до своей собственной трагедии и словом справляется, преодолевает… Этот опыт дорогого стоит. И всё это — ремесло. Поэзия — такое же ремесло, как лечение людей, воспитание детей и любое другое дело…Только в дело поэта добавлено чудо. Сгущение жизни — ремесло поэта, но так же может сказать и хирург, и психиатр, и учитель. И мама с папой этим же заняты — сгущением жизни — для того, чтобы преподнести свой опыт ребенку. Так и поэт — своей книгой — передаёт свой опыт читателю. И всегда и ко всему в жизни — имеет отношение чудесное.
Но поэт отличается от представителя другой профессии только одним — повышенным умением воспринимать боль и справляться с ней… Другим подвластно иное. С душевной болью справиться могут только поэты. Говорят, этим они ближе к Богу, даже ближе, чем священники, — они творят мир свой, и обучают преодолению боли и одиночества.
Вот если представить ленту Мёбиуса — в какой-то момент она переворачивается, и мы там, в точке поворота оказываемся — каждый из людей оказывается. В этой точке видишь одновременно прошлое, настоящее и будущее, которого не существует, ты всё это видишь сразу. У кого-то из фантастов — или в фильме? — кажется, «Люди в чёрном», — был рассказ о том, как кошка носила на шее в виде шарика другую вселенную, и никто этого не мог понять. В каком-то смысле поэт есть такая кошка, с другой вселенной в себе…
Всем нам, сидящим за этим столом, не мешало бы полечиться, мы невротики. Но занимаясь поэзией, человек приходит к понятию нормы: поэт занимается делом вочеловечивания, так что мы с вами заняты великим делом, и кроме того, помогаем справиться читателям и себе — с невротическими жизненными наворотами, а у кого их нет в нашем не самом добром из миров? Поэзию нам в помощь!
Анна ГОЛУБКОВА: Мне кажется, что поэзия — это безусловно позитивное занятие. И когда мы говорим о «поэзии со знаком «плюс», то на самом деле можем вести речь обо всей поэзии целиком. В своё время в рамках симпозиума по Достоевскому, который проводит Игорь Волгин, был круглый стол, посвящённый толстым журналам, и там прозвучала мысль, что, мол, пусть люди пишут не очень хорошие стихи, но, по крайней мере, они не пьют в подворотне. То есть поэзия производит прежде всего облагораживающее воздействие. (Смеётся). Хотя, конечно, на мой взгляд, бывают такие стихи, что думаешь: лучше бы автор пил.
Что же касается ролика, который нам показала Марина Волкова, то он подтверждает ту же самую мысль: контакт с поэзией воздействует на человека крайне позитивно, позволяет ему сбросить эмоциональный груз. Человек должен говорить, произносить вслух какие-то строчки, и от этого ему становится легче. Не говоря уже о том, что многим просто нравится слушать звук собственного голоса.
Реальность в целом оказывает на нас репрессирующее воздействие, и стихи становятся таким каналом, через который человек может сбросить накопившееся в нём эмоциональное напряжение. Это могут быть не обязательно стихи, в которых речь идёт о чём-то хорошем, а наоборот, эмоционально тяжёлые стихи, и тогда начинает работать описанное Аристотелем явление катарсиса. Поэтому, наверное, не стоит в рамках фестиваля Людмилы Вязмитиновой делать акцент только на стихах «позитивных», «положительных», но стоит расширить его рамки и не отказываться от сложных, тяжёлых вопросов, которые перед нами ставит современная поэзия.
И ещё. Понятие о «поэте-безумце» в доромантической поэзии всё-таки было достаточно ограниченным: до романтиков поэзия была в основном выстроенной, как бы «холодной».

Екатерина ЛИВИ-МОНАСТЫРСКАЯ: Поэзия возвращает нас к доречевым основам мышления: скажем, ребёнка чтение стихов успокаивает на каком-то элементарном звуковом уровне. Но «позитив» поэзии проявляется ещё и в том, что она оказывает влияние на сам персонаж стихотворения, его репутацию. Скажем, я живу на проезде Шокальского, это замечательный полярный лётчик, но когда заходит о нём речь, первое, что о нём вспоминают, — что он внук Анны Петровны Керн. Таким образом, стихотворение Пушкина, которое читали в ролике Марины Волковой, сделало бессмертным его адресата.
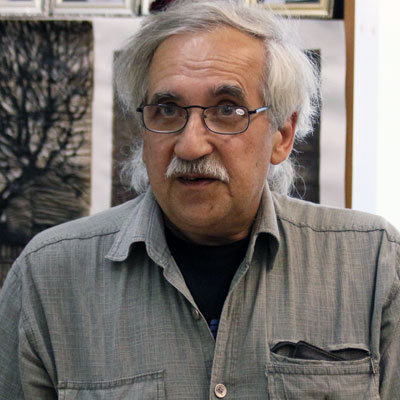
Владимир ПРЯХИН: В истории литературы есть случаи, когда поэты запрещали себе писать «угнетающие» стихи: скажем, в переписке Ли Бо и Ду Фу один из них пишет, что прекратил писать при виде замерзающих крестьян, так этот вид его угнетал. Но есть и другой случай, знакомый нам из переписки японских поэтов, — когда поэт запрещал себе писать в состоянии восторга. Я хочу подчеркнуть, что та часть стихотворения, которая может рассматриваться как искусство, лежит вне таких простых эмоций, как «ощущение счастья», «ощущение радости» или «депрессия»: акт удовлетворения от искусства — это несколько иное.

Борис КУТЕНКОВ: Ответ на первый вопрос: из любого «сора» абсолютно. Поэт тем и отличается, что любой бытовой сор он превращает в золото. И, мне кажется, принципиально тут не разделение на «радость» и «горе» — принципиальны два момента:
1) Видение мира в его сложности, что само по себе предполагает соответствующую оптику рассмотрения — скажем так, под мелкоскопом, — а это, в свою очередь, не коррелирует с позитивизацией или радостью «гламурного» свойства. В анонсе круглого стола об этом очень точно сказано: «С растворённой в его глубине непостижимой для человека тайной переплетения добра и зла». И отсюда перейду к шестому вопросу: «Требует ли уточнения определение «Поэзии со знаком «плюс»? Думаю, не столько уточнения названия, поскольку название никогда не отражает идею в полном смысле, сколько более чёткой концептуализации идеи — отграничивания от так называемых «записных оптимистов», что сразу относит нас либо к медийно-попсовой сфере, либо к тенденциям соцреализма, — тут можно вспомнить показной оптимизм советского человека, комсомольские стихи Михаила Светлова и так далее, но ни то ни другое мы собственно к поэзии не относим.
Лет десять назад был такой конкурс «Поэтическая аптека», руководительница которого принимала только стихи «оптимистичного» свойства, — отсюда мы можем перейти к понятию стихов как терапии, как отдохновения, — всё, что и является, может быть, свойствами поэзии, но абсолютно точно побочными и относящимися скорее к восприятию, нежели к свойствам художественного текста. Скажем, я на днях брал интервью у Екатерины Вильмонт и заметил, сколь мало она и люди её профессии делают акцент на свойствах текста — и сколь много на побочно-психотерапевтических свойствах их романов, — скажем, на том, что кого-то они спасают от самоубийства, делают жизнь легче. У Бориса Слуцкого есть замечательное стихотворение — если не ошибаюсь, написанное после смерти жены, когда он находился в огромной депрессии, — когда он перечитал «всю лирику, снискавшую известность» — с целью прийти к облегчённому состоянию, и стихи не помогли.
Когда ухудшились мои дела
и прямо вниз дорожка повела,
я перечел изящную словесность —
всю лирику, снискавшую известность,
и лирика мне, нет, не помогла.
Я выслушал однообразный вой
и стон томительный всей мировой
поэзии. От этих тристий, жалоб
повеситься, пожалуй, не мешало б
и с крыши броситься вниз головой.
Как редко радость слышались и смех!
Оказывается, что у них у всех,
куда ни глянь, оковы и вериги,
бичи и тернии. Захлопнув книги,
я должен был искать других утех.
Я глубоко убеждён, что поэзия прежде всего ставит вопросы во всей остроте, и ответ на вопрос — это нечто побочное, прямолинейность вообще не в её природе.
2) Второй момент — это момент трансформированной реальности и тяготения к идеальному образу. Мне вообще близко то, что я называю поэзией лирической амбивалентности — то есть некая полилогическая истина, учитывающая сразу много сторон медали, если бы медаль могла быть многосторонней, — когда голос автора растворяется, выносится как бы за скобки, и единая интенция — будь то интенция оптимистическая или нет — становится второстепенной по отношению к этой полилогической истине.
И — что бы я ещё хотел сказать — мы, как мне кажется, слишком часто отождествляем те человеческие интенции, которые предшествуют сочинению стихотворения, и собственно поэтический процесс, который принципиально непредсказуем. Когда мы задумываемся о поэтическом акте, который должен быть «содержащим в себе передачу состояний горя и разлада с внутренним или внешним миром и т. д.», как говорится в анонсе круглого стола, или не содержащим такую передачу, мы всегда рационализируем этот акт, для которого, как писала Цветаева, «важна высшая степень разъятости и высшая собранности»: мне кажется, многим стихам не хватает именно разъятости — с собранностью, рационализаторством, способностью останавливать себя на каждом шагу и задуматься о сказанном, — всем, что мешает поэтической свободе, как раз всё в порядке. И поэтому то, программирует ли поэт свою картину мира или не программирует, в конечном итоге это неважно, — не властны мы в самих себе.
Поэзия открывает нам истину о нас самих, это уникальный источник самопознания. Олег Юрьев говорил: «Я пишу стихи, чтобы узнать, о чём они». Поэтому вопрос о радостной или безрадостной картине мира не так значим: весь поэтический процесс оправдывается тем принципиально нерационализируемым удовольствием, которое поэт получает внутри этого процесса, а задуматься надо прежде всего о себе — о том пространстве внутренней этики и о том, чтобы прийти к стихотворению очищенным. Таково моё отношение к поэтическому процессу — можно назвать его «трансляционным», если иметь в виду разделение Дмитрием Быковым поэтов на «риторов» и «трансляторов».
Ну а о том, относится ли всё сказанное к «высокой» лирической поэзии — я думаю, да, мы говорим именно о лирической поэзии, не об эпосе, не о драме, т.е. не о жанрах, предполагающих иную степень нарративизации и, стало быть, более рациональный, более выверенный подход.

Валерия ИСМИЕВА: В завершение второго дня фестиваля и чтений «Поэзия со знаком «плюс» я услышала реплику Михаила Червякова: «Если бы я не писал стихи, я бы стоял сейчас где-нибудь с кастетом». То есть, конечно, стихи спасают хотя бы сосредоточенностью на этом процессе. Но что касается самого определения «поэзия со знаком «плюс», то здесь возможны расширительные толкования: для меня это означает приращение смысла, то есть приоткрывание границы возможного видимого и осознаваемого, то, что возникает в момент, когда человек решает проблему преодоления кризисного состояния. Поднявшись на другой уровень благодаря поэзии, человек видит по-другому, более объёмно, и способен увидеть выход из неразрешимой прежде апории. Быть может, в стихах это не прозвучит отчётливо, это не обязательно должна быть цепь каких-то логических рассуждений, может родиться какой-то образ, и из него, как из волшебного клубка Ариадны, раскрутится нить, которая выведет из лабиринта.
Если же говорить о состояниях благости, радости и даже стоического преодоления, то, мне кажется, это далеко не полные определения. Приведу маленький пример. Мне тут довелось посмотреть шоу Милен Фармер — не свойственное мне вообще занятие; шоу проходило в июне при полном аншлаге в Париже. Мне неинтересна Фармер ни как певица, ни как продукт поп-культуры, но шоу производило мощное впечатление даже в видеозаписи: это был технически оснащённый спектакль в духе урбаноапокалипсиса. Финал шоу выглядел так: груда черепов — всё, что оставила цивилизация после себя, — а в финале поднималась стена огня, и в пламени исчезает и певица, и её красный наряд. У зрителей, судя по видеозаписи, по-моему, был шок, они были растеряны. Но энергетическое воздействие этого шоу тем не менее очень мощное: оно было построено как психоделика, в эстетике не поп, но рок-культуры, с определёнными шаманскими ходами. Я ощутила прилив бодрости, и у меня пошли свои инсайты. Но объективно шоу нельзя отнести к мероприятию «со знаком «плюс», оно довольно ужасающее, и был ли там катарсис — я тоже, честно говоря, не уверена. Мы не можем дать ответ на вопрос, что будет для человека позитивом, что будет порождать феномен самоисцеления. Мне кажется, что важно не ставить какие-то жёсткие препоны: сама формулировка «поэзия «со знаком плюс» достаточно обобщённая. Если бы мы проводили здесь научную конференцию, мы обязаны были бы уточнить это определение, но поэзия вообще не сводима ни к каким научным формулировкам. Также я не взялась бы говорить однозначно о воздействии на человека той или иной поэтической картины мира: это гораздо более сложный механизм. Конкретное действие зачастую оказывается сложнее самых сложных построений.
Александр БУБНОВ: Спасать может всё что угодно. Если бы сейчас здесь сидели врачи, они сказали бы, что спасает медицина, а мамы — что спасает рождение детей.

Данила ИВАНОВ: Мне кажется принципиально важным элемент целеполагания, сама интенция, и кажется важным расхождение между тем, что человек пишет, и тем, что он хочет писать. Если перефразировать знаменитое высказывание Махатмы Ганди, можно сказать, что литератору стоит стать тем текстом, который он бы хотел видеть в мире. И второй момент — из смежной области, из драматургии. Я сейчас читаю интересную книгу Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой», которая считается своеобразной Библией для сценаристов, и там рассказывается, что в древности трагедия считалась низким жанром, а комедия — высоким. Те, кто творили комедию, считались теми, кто находится, с одной стороны, в состоянии свободно играющего ребёнка, а с другой — осознанного взрослого, который может соединять смыслы, оставаясь при этом ребёнком. Думаю, что тут нет привычных «знак «плюс» и «знак минус», эта теория интересна тем, что в ней присутствуют очищенные смыслы.
Людмила ВЯЗМИТИНОВА: Есть ведь трагикомедия, но почему-то нет комитрагедии.
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ: В Бехтеревском институте изучения мозга занимались проблемой творчества, и там говорилось, что есть четыре состояния сознания, но все мы знаем только три. А четвёртое знакомо только двум категориям людей — монахам, читающим Иисусову молитву, и поэтам. Но разница в том, что монах постоянно находится в этом состоянии, а поэт входит и выходит из него. И вот это четвёртое состояние сознания требует большого внимания и изучения.
Спасибо за то, что читаете Текстуру! Приглашаем вас подписаться на нашу рассылку. Новые публикации, свежие новости, приглашения на мероприятия (в том числе закрытые), а также кое-что, о чем мы не говорим широкой публике, — только в рассылке портала Textura!




