Анна Аликевич
Поэт, прозаик, филолог. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького, преподаёт русскую грамматику и литературу, редактирует и рецензирует книги. Живёт в Подмосковье. Автор сборника «Изваяние в комнате белой» (Москва, 2014 г., совместно с Александрой Ангеловой (Кристиной Богдановой).
Редактор — Анна Жучкова
Джен на хлеб наш насущный
О книге Евгении Джен Барановой «Где золотое, там и белое».
М.: Формаслов, 2022.
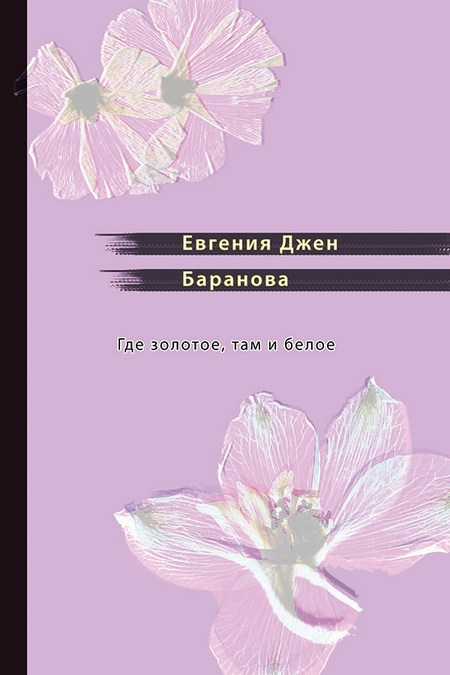 Моё знакомство с Евгенией Барановой началось скандально. Некий одарённый автор, вместо приветствия прочитав мне её стихи «Мой старый муж приходит ревновать, мой новый муж садится сожалеть…», раздражённо заявил:
Моё знакомство с Евгенией Барановой началось скандально. Некий одарённый автор, вместо приветствия прочитав мне её стихи «Мой старый муж приходит ревновать, мой новый муж садится сожалеть…», раздражённо заявил:
— Возмутительно!
— Но, позволь, что же здесь такого неприемлемого?.. Стихи как стихи, даже весьма мелодичные и образные, — отозвалась я.
— Какая рафинированность! Фифа! — человека было не узнать, словно он съел что-то острое и подавился.
— Что-то ты мимо, — возразила я, — при чём же здесь сам автор, это просто образ героини такой…
— Это ты своим выпускникам будешь рассказывать про образы, а мне — не надо!
Я поняла, что человека лучше оставить наедине с его чувствами, но появившийся интерес к творчеству поэтессы уже было не погасить. Я прочла одну подборку, другую и так незаметно стала постоянным читателем Евгении. Действительно, её лирика стоит особняком. Автор предстаёт любящим, нежным к этому миру человеком, но вместе с тем хранящим замок своей личности и уважающим свой микрокосм, свои чувства, представления, оберегающим и фиксирующим их. Не забуду, как меня поразили её стихи: «Я жалкая, я крохкая…» Тем не менее её, как принято сейчас говорить, стилистическая риторика, и правда, создаёт чувство отчуждённости автора. Ведь любит-то он «свой» большой мир, а не читательский — трудно поверить, что это одно. Каждый человек гуляет по своему Петербургу и встречается свою Ахматову, так что говорить о таких сравнительно маленьких вещах, как субъективное восприятие явлений погоды или вещного мира?
Кому нужна я,
слабенькая, злая,
раздавленная прихотью любой,
когда другие — вона как летают,
когда приёмом выстланный покой
других встречал до моего сигнала,
до встречи космонавта с кораблём.
— Ещё урок, я вас не отпускала, —
гуляем по веревочке вдвоём.
Сказочный мир Джен несколько меланхоличен, но это светлая печаль, печаль надежды. Там нет депрессивности, того, что однозначно определяется как «чернуха»: у последней нет внятного определения, но уже при первой волне чувствуешь — она. Здесь шаток и полон отсветов, призраков, перекличек мир поэта, но это мир пастельных оттенков; что важно, поэзия Джен не является «женской лирикой», а её словесный и образный поиск почти не окрашен в привычные нам личные эмоции «пишущей дамы».
И церковь златокудрая цвела
на черепе сожжённого дотла,
и грезила Цветаева Тучковым…
тысячелистник, сабельник, чабрец.
ребёнку утомившийся отец
несёт образовательное слово.
Что же это за сверхреальность, в которую мы попадаем в «Золотом и белом»? Да, это вторичный мир, то есть, как в шутке, чтобы погрузиться в него, нужно прочесть хотя бы два раза. Мир Джен — игрушечный замысловатый корабль, плывущий в игрушечном море усложнённого культурного пространства. Это не значит, что его не касаются беды и проза жизни, но они преломляются сквозь мозаичные иллюминаторы и видятся уже преображёнными, ставшими художественными объектами. Проще всего, грубее, сравнить с миром ребёнка, в котором реальность и вымысел перемешаны: диванные войска хранили Форум, из телёнка сделают ботинки, я зайчика отправилась искать. Но в то же время ребёнок — одна из ипостасей любого творческого человека, нередко личности сложной и тонкой внутренней организации. Так и здесь этот ребёнок играет в сложном переплетении нитей, тянущихся от Ерёменко и Мандельштама, Хармса и Ахматовой, конечно же.
Смотрела мультики во вторник,
делилась в среду апельсином,
в четверг прогуливала школу
крепила к счётчику магнит.
Вот я стою на фоне моря
в зелёных подранных лосинах,
и мне всё это объяснимо.
Жаль, волосам не объяснить.
Перед нами не что иное, как попытка существовать в контексте «большой» литературы, хоть и через противопоставление своей малости этому вековому масштабному пространству. Кто-то скажет: «какая наглость», как про неопытного автора, поставившего посвящение самой Марине Ивановне — но в данном случае это не попытка приравнять себя к великим, а естественное существование в контексте, который является органичным, привычным миром саморефлексии для автора. Такое «контекстное» существование в годы моей учебы как раз и определялось, как «неподлинное», литература от литературы: где же автор лично соприкасается с «реальной почвой», если он живёт только в мире табакерки Пастернака и высоковольтных линий Ерёменко? Однако с возрастом я всё менее уверена, что автору так уж необходимо ступать на реальную землю — да и что есть эта пресловутая «земля»? Большие девочки понимают, что даже творчество «от сохи» на самом деле очень редко и вправду идёт от неё. В то время как именно «вторичное», то есть идущее от определённой культуры творческое пространство, — и есть уникальный авторский продукт.
Что, кажется, прошу Антониони
заснять всё это: кухню, стол, постель,
засохший хлеб, молочную форель
ко мне не прикоснувшейся ладони.
Нереальность мира Джен отличается, действительно, «искусством быта» и умением выбирать имена и вещи. Так что обвинение в элитарности, которое я ощутила тогда в пусть и несказанных словах собеседника, имеет основания. Другое дело, что современная поэзия по своей природе, как кажется, давно перестала быть сугубо народной и потому для неё даже естественно существование в особом пространстве. Но не в избе деревенской, не на завалинке, не в походе или на производстве, — а в частном литературном мире, кажущемся кому-то «страшно далёким от народа». Мы смирились, что искусство требует адаптации к среднему зрителю (то есть либо зрителю объясняет компетентное лицо, что хотел сказать Поллок, либо внизу картины даётся комментарий), так почему поэзия должна быть иной? Может, это мы должны вырастить себя до неё?
Другая претензия на очереди, после «элитарности» и «литературности пространства», — к самому «легкомысленному отношению к жизни». Действительно, если к жизни относиться всерьёз, как говорил Уайльд, от этого можно умереть. Поэзия Джен — бесполезная, но вовсе не бессмысленная, не всегда понятная, но всегда чувствуемая — как раз такой пример несерьёзного серьёзного отношения, когда человек понимает, как мало от него зависит. И не страдает бессмысленно по этому поводу, не тянет груз коллективной вины и не готовит себя к сверхмиссии, пытаясь постоянно раздуться в вола из лягушки — возможно, это и не нужно вовсе. Я не умею помнить о тебе, особенно про шрам на подбородке. Если написать про большие события, стихи не станут от этого «большими», и напротив, самый незначительный пустяк может быть полным музыки, если даже и не мужества, в руках мастера.
Если бы меня спросили, чего в поэзии Джен точно нет — я бы сказала «публицистичности». И долго колебалась бы по поводу отсутствия гражданственности, потому что убеждена: история в любом её виде — это уже рефлексия и внутренний призыв. Другой вопрос, к чему она побуждает, как известно, язык её касается сердца, а оно у каждого своё, и понят голос прошлого может быть по-разному, ведь это не агитплакат, а море, в котором стоят и стоят мертвецы. Также здесь минимизированы социальные мотивы, что даёт повод обвинить автора в «нарциссизме», «самолюбовании». Хотя лирик имеет полное право говорить о мире в себе, а не описывать страдания собаки или соседа, — конечно, есть и исключительные случаи, когда гений в определённом смысле отождествляет «личность» коровы или лисы с собственной, но это другое. Сочувствие и доброта к миру вообще, несмотря на фокус на своей рефлексии, абсолютно преобладают здесь над иронией или сарказмом, которых почти не встретишь у достаточно наблюдательного и умного автора.
Когда ходили по небу вдвоём
с писателем одним рыжеволосым
тогда и я надеялась понять
за что меня читатели не любят
За то, что перед нами не моралист и не дидактик, а автор «без внятной позиции»; вдобавок женщина, которая не феминистка и не проповедница рецептов счастливого очага, при этом позволяющая себе оставаться женщиной, а не объектом абьюза, носителем травмирующего опыта. Рефлексия без попыток поменять мир или хотя бы себя с соседом, непризывание ни к чему — и даже иногда она смеет быть не печальной. В общем, есть от чего возмутиться…
И вот я существую. Хрупкий
неразговорчивый тростник —
ловлю в стакане сухофрукты,
давлю гармонию из книг.
Поэзия Джен — прекрасный и искусный цветок, но не декоративная привлекательная поделка, а нечто большее — это своё слово в языке нашего времени, явление, привносящее в культурное пространство современности новую индивидуальную грань, слагаемое, из которого складывается полнота сегодняшнего литературного поля.



