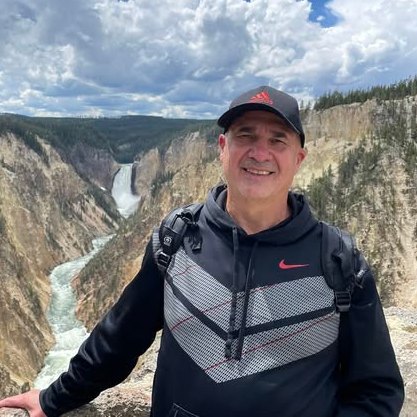Наталия Черных родилась в г. Челябинск-65 (ныне Озерск), училась во Львове (1985–1986). В 1987 закончила Библиотечный техникум (теперь колледж) Мосгорисполкома по специальности “Библиотечное дело”. С 1987 года живёт в Москве. Работала библиотекарем в Литературном институте имени А. М. Горького, переводчиком с английского в издательстве “Терра” (1994–1995), рецензентом в издательстве АСТ (2000–2005) и т. д.
С 2005 года — куратор интернет-проекта «На Середине Мира», посвященного современной русской поэзии. В 2020 проект приостановлен.
На 2023 год 12 книг стихотворений.
Издано три романа: “Слабые, сильные” (журнал “Волга”, 1, 2015), “Неоконченная хроника перемещений одежды” (“ЭКСМО”, 2018), “ФБ любовь моя” (“Волга”, 7, 2019), книга повестей “Приходские повести” (“ЭКСМО”, 2014), шесть книг очерков на религиозные темы (“ЭКСМО”, “Воскресение”, “Никея”).
Лауреат премии имени Святителя Филарета за лучшее религиозное стихотворение (2001). Лонг-лист премии “Большая книга” за роман “Слабые, сильные” (2015). Лауреат премии критики “Летающие собаки” за эссе о поэзии Елены Фанайловой (2013). Лауреат премии “Московский наблюдатель” за тексты о литературных мероприятиях 2019 и 2021.
Публикации в журналах “Новый Мир”, “Знамя”, “Волга” и других сетевых и бумажных изданиях — поэзия, проза, эссе, рецензии на книги стихов актуальных авторов. Сотрудничает с порталами “Текстура” и “Формаслов”.
Редактор публикации — Елена Черникова
Воск
Он был бы прекрасным лешим, портящим резвых девок: разговорчивый, временами веселый, внезапно и странно ласковый. Но не случилось. Он родился в известном пригороде, всю жизнь имел тягу к чему-то условно-народному, однако деревенским лешим не стал. Зато к семидесяти вполне оформился как утомительный городской дожитель: без детей, без друзей, без увлечений. Хотя дети были, друзья по телефону, и водка вечером.
Творческие способности его мерцали, как и веселость. Ему что-то “приходило”, порой удачное, и он это удачное любил. Как черт сухую грушу. Но то самое таинственное, которого с ним так и не случилось, шло рядом почти бесшумно и жило своей собственной жизнью.
Соседкой его с нижнего этажа была немолодая женщина, сухонькая, среднего роста. Они вежливо здоровались: в магазине, а подъезде, в лифте.
………………………………………………………………………………………..
Постельное белье, на котором спала девочка, было желтоватое и скользко-шелковистое от времени. Девочка спала на диване. История не сохранила факта, спала ли девочка вместе с матерью на этом диване, или у нее было отдельное спальное место. Квартира была в новом доме, но однокомнатная. Сон у девочки был плохой. Вставать нужно было рано, в семь — в школу. Училась девочка неплохо, без троек.
Свет от настольной лампы шел по стенам мощно и настойчиво. Так что сны девочки были тревожными. Мать что-то читала и о чем-то долго думала. Иногда ходила по квартире, подобно сомнамбуле и водила руками по стенам, в поисках источников радиации. Иногда кожа рук матери ловила слабое электрическое поле. Но матери казалось, что сильное. Однако как-то раз мать нашла таким образом под обоями неисправную розетку.
Дело было не столько в свете лампы, сколько в том, что мать ночью совершала какие-то активные и странные действия. Не то ворожила, не то изгоняла бесов. Впрочем, мать была уверена, что в ее дочери сидит бес. Потому что дочь восстает на нее. Мать так и воспринимала поведение дочери, что та на нее восстает. А у девочки еще даже не было месячных.
Посещение храма принесло матери не только Библию, которую она тут же купила, не считаясь с расходами, но и много новых сведений. В частности, о том, как можно помочь одержимому бесами человеку — слить воск в святую воду над его головой, когда спит. Мол, так бесы выходят — в воск. Человек очищается и становится исполненным благодати. И начинает работать Богу, а не бесам. Больше всего на свете мать боялась “работать бесам”. Мать ощущала облегчение, когда над ней самой сливали воск, потому что зрение становилось лучше и пропадала обычная для нее тошнота, как будто бесы действительно уходили. Эту процедуру она проводила и над дочерью. Ночью, когда та едва засыпала, и не думая о том, что ребенка можно разбудить.
Свет от лампы был воспалено желтым, даже оранжевым. Вместо воска был парафин. Но иногда матери удавалось заполучить от церковницы несколько огарков храмовых свечей, и это была радость. Значит, бесы точно выйдут. Бесов, по мнению матери, было много. Они входили в нее и в ее дочь на улице, через рот, нос и глаза, через прикосновения к чужим вещам, через прикосновение чужих к личным вещам. Но все равно входили, и легионом.
Евангелие читалось матерью почти как книга заклинаний. Одним из любимых фрагментов было исцеление бесноватого, в котором был легион. Потому что легион — это много. Мать считала себя сильной и достойной легиона. Другой любимый фрагмент был об исцелении больного сына, за которого просил несчастный отец. Господь только что сошел с Фавора и исцелил этого сына. Тогда же Господь сказал ученикам, что бес не выходит иначе, как молитвой и постом. Сказано это было в момент особой духовной силы, потому что Господь был на Фаворе и там Ему был Глас Отца Небесного. Пост и молитву мать понимала тоже своеобразно: они должны приносить изнеможение. Не изнемог, не стошнило от голода — значит, не постился. Отчасти это правило распространялось и на дочь: “Ты уже большая!”. Больного юношу из Евангельского фрагмента бес бросал в огонь и в воду. Вероятно, юноша неоднократно пытался покончить жизнь самоубийством. После того, как злой дух оставил юношу по велению Христа, тот упал замертво. В том, что упал замертво, мать узнавала свои собственные обмороки. Она считала и себя сильно одержимой. Одной ей было скучно быть одержимой, и она решила, что в ее дочери тоже сидит бес.
Потому что все передается по роду. И бесы тоже. И никак иначе.
Мать готовилась к причастию старательно, вычитывала все положенное правило, щедро подавала старикам и старухам, пускала на ночь бродяг, не считаясь с мнением дочери. А ночью начинала главное: сливать воск.
Когда матери перепадали огарки церковных свечей, она старательно доставала из них фитили, резко и осторожно, как разделывают свежую рыбу. Затем расплавляла их над газовой конфоркой в специально купленном для этой цели половнике. Иногда добавляла половину парафиновой свечи, для увеличения количества смеси. Заблаговременно приготовленную воду держала рядом, чтобы взять сразу и пойти к кровати, на которой спит дочь. Воду эту мать брала каждую субботу в церкви. И пила ее строго натощак. Если воды не хватало, мать наливала в специальную трехлитровую банку водопроводную воду, зажигала свечу и, водя свечой над банкой, читала три раза “Отче наш”. Потом вливала в банку остаток святой воды. Всю посуду для сливания воска мать держала в особом месте под чистой тканью.
Девочка начала узнавать эти странные материнские шаги. Они были — как бы не матери совсем. Так хищник крадется, что ли. Девочка не спала, она прекрасно понимала, что сейчас будет. Ей на голову поставят холодную миску, а потом в воду польется сильно пахнущий состав воска с парафином, зашипит. И даже капнет на постельное белье. Зато потом мать покажет странные пластины, на которых, как застывшие облака, будут следы бесов. Пока сливает воск, мать шепчет что-то, чего батюшка ей не сказал, но какая-то церковница наговорила, и мать записала за ней. Надежда матери на то, что бес из ее дочери навсегда выйдет, кололась и жглась, как капли воска. Эта надежда была другим концом тупа, невыносима в своей ненужности и какой-то подлинной человеческой злобе. “Ну я же тебя добрую делала, лапочка ты моя”.
Девочка была нежеланным ребенком. Но мать относилась к ней как к части себя самой. Эта нестыковка отражалась и на дочери. Мать так и не поняла, что дочь ее — это другой человек.
Любая домашняя неурядица, любое повышение тона разговора, даже настойчивая просьба дочери для матери имели бесовскую основу. Если бы девочке тогда было сорок лет, как будет потом, и она обладала бы теми же знаниями и уверенностью, что будут у ней в сорок, она возразила бы матери и представила бы доказательства. Что любая ссора от бесов. Что спасение это не только поиск бесов. А мать их просто искала. Чтобы выгнать. Но искала.
Старые зыбкие подушки и желтоватое белье начали вызывать у девочки бессонницу. Когда она ложилась, чтобы уснуть — мгновенно просыпалась от тревоги. И лежала, подремывая, с закрытыми или приоткрытыми глазами. В ожидании, что снова раздадутся эти странные шаги. И потом на висок ляжет холодный бок миски. И что-то зашипит, заклокочет, пронизывая неокрепший мозг. Но хуже всего был свет настольной лампы. Длинные жесткие лучи, от которых не спасало даже одеяло, если его натянуть на глаза. Плотное, убивающее все нежное доброе на своем пути, излучение.
Порой в застывших пластинах воска девочке чудилось что-то забавное. Вот этот просил сухарей и конфет. Вот этот обиделся, потому что в школе обозвали коротышкой. Вот этот чесался со странным удовольствием. Часто узор пластин действительно напоминал облака.
Что делала мать с пластинами, девочка толком не знала. Переплавляла их снова, выбрасывала или сжигала. Скорее всего сжигала где-то во дворе, тайком, чтобы не дать пойманному бесу выйти снова на волю.
Вскоре девочка стала просыпаться от знакомых звуков. Вот мать воду налила в миску. Вот половник достала, задев металлическим черенком покосившуюся сушку для посуды. Вот крошит свечи в половник. Вот зажигает газ, а тот свистит синим пламенем, пока в половнике не зашипит опасная жидкость. Вот мать взяла миску с водой. И вот они — дикие, страшные шаги.
Как хочется именно в этот момент заорать: не надо! не делай так больше! Но девочка уже знает, что если она подаст признак жизни, даже если засопит, то будет намного хуже. Воск прольется на мать или на нее саму. А уже давит на висок нечеловеческий холод, и в него льется пахнущий гарью нефтяной поток.
Девочка пробовала возмущаться, просить. Тогда мать начинала уговаривать ее, чтобы слить воск не в сонном состоянии. Сливали. Те же пластины с облаками, изогнувшимися как-то похотливо, те же звуки. Представить, что эта процедура когда-нибудь закончится, было невозможно.
Но воск закончился. Мать увлеклась поездками к одной старице и как-то сама собой про воск забыла. Начался новый ад, но уже не с воском.
Девочка церкви не боялась. Ей просто нечего было там делать. Мать не объяснила, что нужно в церкви делать, а больше некому было. Простое “надо” не срабатывало, а приятных моментов во всеобщей старушечьей толкучке девочка не наблюдала. И только почти случайные впечатления оживляли маленькое сердце. То Лик Христа на кресте глаза поднимет. То ветви пальм на иконе всколыхнутся. Это было красиво и очень по-настоящему.
“Православие без толкучки не бывает!” — с особенным удовлетворением говорила мать после литургии. Для нее воскресная помятость была нормальным и почти желанным состоянием. Было в нем нечто сектантское. Хлыщу, хлыщу — Христа ищу. Но до сектантского не дотягивало.
“Зачем старухи стоят так тесно. Почему колют друг друга и меня локтями. Зачем нужно так громко и сильно пускать газы. Это что, признаки духовного очищения”. Все это девочка наблюдала не раз. И никак не могла этого понять. А старухи давили одна на другую, на мать и на девочку. И порой было страшно одной оказаться в человеческом водовороте, когда не видно ни пола, ни потолка, ни стен. А в макушку стучит визгливая материнская фраза: так надо, — без каких-либо объяснений. Зловонное дыхание старых ртов суммировалось в одно общее человеческое дыхание — дыхание паствы. Священника на солее часто вообще не было видно из-за старух. А по виску шел тот самый потусторонний холод, какой был от миски, в которую сливали воск. И густой запах парафиновых свечей давил на грудь.
Прошло много лет. Не благодаря, а вопреки. Впрочем, все же благодаря Богу. Девочка воцерковилась без матери. А воск остался. Застывшей бледно-золотистой тревогой. Оттисками будущих неприятностей и ощущением полной беспомощности. Так на каждое, сказанное священником: “ты не одна, а с тобой Господь, Матерь Божья и Ангелы” — девочка улыбнулась бы вполне сатанинской улыбкой. Но она хорошо себя воспитала, и не улыбалась так. Однако воск тревоги был, он застыл глубоко внутри.
Уже в новом столетии, глядя на вооруженных очками и новыми юбками пожилых церковниц, девочка порой вспоминает тех, которые учили вере ее мать. Невольно сравнивает, хотя сравнение — дело неблагодарное. Как похожи повадки. Тот же косой наклон корпуса. Те же быстрые хищные руки, похожие на клешни. Только теперь — с маникюром. Появился макияж, которого те старухи себе никогда не позволили бы. Ушло неуловимое, темное изящество и приправленное сырой надеждой земляное упрямство. Появилась гибкая пластиковая наглость.
Например, идет елеопомазание. Затылок к затылку прижат тесно. И какая-то особенно активно благочестивая раба мчится к лампаде над почитаемой иконой, потому что та погасла. Останавливает человеческий поток дерзким жестом. Люди сталкиваются, шатаются. А раба эта выхватывает из толпы высокого подростка и велит ему поправить лампаду. Такого девочка тогда даже на пасху не видела.
Но человеческий поток мерцает, идет и шипит, как смесь церковных огарков с парафином. Людей в храме много-много. И выливаются они в ледяную воду источника, идущего свыше. Застывают группами, пластинами, на которых отпечаток их лиц, тел, запахов. И рука свыше берет эти пластины, и глаз, человеку неведомый, рассматривает их. Девочка об этом знает.
Знает она и о том, что есть где-то золотая-золотая пустыня. Днем там до судорог жарко, а ночью горит мороз. И в этой пустыне — живая, стройная, текучая, гибкая тень — живет нагой человек. Подвижник. Рот его едва сохраняет звуки человеческой речи, а члены его ловки и быстры. Сердце и глаза его видят Бога, без всяких дополнительных процедур.
……………………………………………………………………………………………
Довел кого-то нечаянный леший до самоубийства или нет, неизвестно. Но день его расположен равномерно и строго. Утром он приходит в себя. Долго. Читает сводки, готовит еду. Потом идет в магазин за водкой. И вечером действительно превращается в лешего. Только наполовину. У него не хватает смелости портить девок и смеяться.
Платная услуга
Я проснулась оттого, что вели рукой по моему лицу. Жесткой, крупной рукой. В оное время ночевки в лавре, в храме, были делом неудобным и отчасти опасным. А рука точно была большая и жесткая. Я глаза открыла, но не широко: кто бы это. Болящий человек, ясно. Но как с ним быть, если он так близко. Возле меня сидела детского роста монахиня с длинным бледным лицом, закутанная, несмотря на лето, теплым коконом. И вдруг — провела рукой по моему лицу. Я закрыла глаза, чтобы не провоцировать на более серьезные действия. И точно. Монахиня несколько раз погладила меня по спине, вздохнула, но не грустно, а почти облегченно:
― Нашим людям сюда больше нельзя ходить.
И укатилась куда-то в угол. Ноги у нее были болезненно короткие.
Что за наши люди? Я немедленно замерзла, несмотря на теплую весеннюю ночь.
По тем годам я помню одну женщину, солидного уже возраста, с которой пришлось мне не раз оказаться то в паломнических поездках, то на мытье картошки в лавре. Она много рассказывала чудесных вещей, но все какие-то страшные. Как она видела Христа и Его Матерь, я так и не поняла, но вероятно видела. Священники, едва начнешь им что-то необычное рассказывать, сворачивают разговор. Не та тема. Негатива много. И я тоже так считаю. Но как быть с огромным пластом человеческих жизней, которые долгие-предолгие годы хранили веру во Христа в себе и других, несмотря на чудесатое поведение и странное видение религиозных вещей. Во мне даже не жалость говорит, а какое-то последнее тепло. Ведь я очень много с ними была. А счастливых моментов общения с нынешними людьми, которые считают себя православными, не было. Впрочем, не мое дело рассуждать, православные они или нет. Однако вернусь к той женщине солидного возраста и ее рассказам.
Едва прогремело тысячелетие, а Оптина стала похожа на площадку великой стройки, на которой то тут, то там, показывались вместе и последняя нищета, и кристальная святость, героиня моя захотела дом в деревне. Потому что ей было видение, что она и два ее сына спасутся именно там, в родном селе. Село конечно было не родное, но героине моей очень нравилось. Ей хотелось к корням поближе, всем пылким и мягким сердцем. Старший сын человек был полукриминальный и обладал достаточным количеством денег, чтобы исполнить просьбу матери. Да и сельскохозяйственный проект его привлек. А вдруг на месте старого дома вырастет знатная ферма. Но все получилось иначе. Скотина у героини гибла. Молодого, с золотистой шкурой, бычка отравили, куры постоянно болели, индюшки и цесарки дохли. Коза лишь не поддавалась, а довольно воинственно смотрела через улицу, на дом соседей, от которых, по мнению героини, исходила опасность. Что до населения, то в этой Ильинке часть мужского уже отсидела. Вещи у героини пропадали почти ежедневно. Но что делать — родину покидать нельзя.
Героиня считала, что обладает красивым голосом. Она можно сказать обожала свой голос. И непременно хотела петь на местном клиросе.
Однако и тут начались препятствия. Клирос держали три старухи, которых даже священник побаивался. Все три были местные в энном поколении, авторитетные и властные. Что у них происходило между собой, никто не знает, но влияние на умонастроение села у них было серьезное. И вот моя героиня, как птичка, влетела на этот клирос. Петь ей позволили. Разногласия по поводу что и как петь, велись вежливо. Но было что-то еще такое, отчего у героини слабели колени и холодело в груди. Как раз в эти дни умерла ее любимая собака Пальма. Местный дед Митяй, кожевенник, снял с пальмы шкуру, выделал, и сделал нечто вроде ковра — для согрева больной спины героини. Передавая работу, горьковато усмехнулся. Шкуру Пальмы героиня положила на кресло и прекрасно там сидела, разбирая октоих или читая правило. Старухи, наконец, соизволили прийти к героине в гости.
Отрядили для этой миссии Анну, высокую, в неизменном белом платке, громкую и резковатую. Едва Анна вошла в дом героини, как стукнула своей палкой по полу и воскликнула:
― Нельзя собаку в доме держать! Тут иконы! И шкуру нельзя держать! Тут Богу молятся!
Затем произошел диалог, в результате которого шкуру Пальмы героиня сожгла на заднем дворе, как некую скверну.
Через неделю героиня на клиросе уже не пела. Вдобавок с ней случилась сильная ангина, и говорила она шепотом. Пасечник дед Орех, в особой религиозности не замеченный, сказал героине, когда принес что-то из летних запасов:
― Ты к Анне Савкиной сходи. Она, может, поможет.
Анна было местное имя. Почти всех девочек называли Аннами.
Савкина оказалась худощавой, молчаливой и аккуратной старушкой лет восьмидесяти, в платье, перешитом из школьных форм. Особого достатка в ее доме не было, но по слухам, а куда без них в деревне, дети и внуки ее материального горя не знали. Савкина по дому все делала сама. Изредка приходил местный пьяница Толян и носил воду, в основном — зимой.
Героиня стояла, трепеща от доверия и надежды, чуть склонившись, кое-как утепленная и с блестящими от жара глазами. Она ожидала, что Савкина скажет что-то типа “сглаз” или “порча”, во что героиня верила как во святых, но та ничего такого не сказала, а предложила сесть и принесла чаю с малиновым листом. Затем достала из ящика старинного стола, ножки которого уже начали не в шутку расслаиваться, толстую общую тетрадь. Как заметила героиня, в ящике лежало еще несколько таких тетрадей, разного цвета.
― Имя, крещеное, ― с местным якающим говорком спросила Савкина и взяла ручку, школьную, и чистый лист открыла.
Героиня назвала свое имя.
― Десять рублей, ― записала имя Савкина и посмотрела на героиню сквозь сильные очки. ― Кафизьму буду читать.
В голове героини взвился вихрь вопросов. Кто благословил ее за деньги читать псалтирь? Неужели такое возможно? Про двадцатки, где у каждого своя кафизма, героиня слышала еще в лавре, у чад отца Наума. Но чтобы вот так, за деньги. Как будто эта Савкина одна – и монастырь, и все его монахи. Но рука сама собою потянулась к кошельку и отдала червонец.
Как оказалось, к Савкиной обращались очень многие. И почти все получали некую помощь от ее чтения. Все средства свои Савкина отдавала детям и внукам, живущим в Москве, а иногда и на церковь, с которой у нее отношения были сложные. Как смогла заметить героиня, клирошанки причащались очень редко. Если вообще причащались. Савкина приступала к причастию на Рождество и на Пасху, и, вероятно, постилась аккуратно. Впрочем, и клирошанки, и еще пара-тройка прихожанок тоже постились — строго. На героиню, которая приступала к тайнам довольно часто и постилась с послаблениями из-за болезней, смотрели как на извращенку. Но ничего противного не говорили. И потом, кто-то же должен причащаться.
Одна учительница, по рекомендации местного водителя, приехала к Савкиной и попросила ее почитать псалтирь за сына, который недавно развелся и очень страдал. Савкина взяла довольно много, но все знали, что кафизмы она читает регулярно и внимательно. Вскоре сын женился на престарелой девушке, которая вырвалась из какой-то секты и зажил аки небесная птица. Они с женой о детях не задумывались, зато много путешествовали по святым местам, жили, где придется, питались, что Бог пошлет. Когда некоторое время им доводилось жить у матери мужа, это был сущий ад — хуже, чем грязь и скандал. Невестка решила, что надо экономить воду и не раздражать мать мужа. И потому в домашних делах не участвовала. Сын сам варил макароны, делал чай и носил его жене.
Бабушка, которой ее дочь, работавшая в тресте с международными связями, оставила на воспитание ребенка, объездила почти всю страну в поисках старцев и исцеления для себя. Внучка фактически выросла в монастырях, хотя ребенку все эти перемещения не нравились. Да еще младшая дочь бабушки болталась под ногами и почти кричала о том, что хочет хотя бы неделю дома посидеть. Через пару лет явилась мать внучки, забрала ее и устроила в одну из лучших школ. Девочка увлеклась сначала волшебными сказками, а потом и мистикой, с уклоном в колдовство. Савкина прилежно читала кафизму и за эту бабушку. Впоследствии именно внучка стала опорой бабушки, вышла замуж и с мужем обвенчалась.
Героиня моя ничего особенного от такой странной услуги не ожидала. Однако довольно скоро ангина прошла, а потом, не прошло и недели, приехал сын — жена его, певица, родила мальчика. И героиня моя стала замечательной бабушкой. Однако ей очень хотелось отдельную однокомнатную квартиру в родном городе. Когда старший сын начал строить свой жилищный парк в Москве, героиня очень захотела трехкомнатную, и получила ее. Но сначала пришлось жить в ней вместе со старшим сыном, не выносящим привычек матери, а потом — с младшим, площадь которого забрал себе старший. Младший был инвалид и законченный алкоголик. Тихий, не очень много пьющий, но алкоголик. Потом однокомнатная квартира в родном городе все же появилась. Но героине постоянно виделась то осуждающая собачью шкуру Анна, то клочки рыжей шерсти, вкопанные в ее грядки, чтобы ничего не росло, то человек на чердаке, который хочет поджечь ее дом. Дом, кстати, правда однажды подожгли. Но героиня и ее документы не пострадали. Светлая идея родины — дерева, в корнях которого течет живой источник, а в нем купаются ее сыновья и внуки, так и не покинула ее.
Анна Савкина скончалась тихо. На ее похоронах погода была ясная. Никто из ее детей и внуков не приехал. За гробом шли скорченные от старости, но духовно не сломленные клирошанки.
На Божью гору
Если бы все вышеописанное происходило в другой вселенной, то было бы менее удивительным. А теперь немного нервные сытые мамочки пишут отзывы о книгах. Что, мол, хотели почитать о подвижницах семейной жизни, а им предложили биографии монахинь. Зачем семейной женщине монахини. Она семье служит. Ей так батюшка сказал. И еще она один блог смотрит, очень ей ведущий — священник нравится. А во времена оны было не до блога, и служение семье именно как служение не воспринималось. Была лямка, которую тащили — кто как мог, в силу устойчивости души.
У моей героини душа была неустойчивая. И еще была у нее очень больная сестра. Шизофрения, так врачи написали в карте. Но Верочка вела себя всегда тихо. Только стихи запоем и во множестве читала. Запоминала их почти сразу. И еще она стихи писала. И любила новую одежду. Даже если гневалась, то как ребенок: звонко, коротко. Даже лучше, чем ребенок. Ребенок может час орать дурным голосом, и это вроде как нормально. Верочка поплачет минуту, и снова с книжной убежит на свой диванчик. По дому ничего она не делала, а старшая сестра на это злилась долго и густо. Она вообще лидером себя считала, эта моя героиня — старшая сестра.
― Кому много дано, с того много и спросится! ― Говорила она о себе. — Я за всех вас!
Но что именно, никогда не договаривала.
Мать героини моей и Верочки зашивала деньги в тайный карман перины. А деньги получала она, сидя у Елоховского собора на паперти. За место, понятно, приплачивала. Вид у этой старушки был крайне благочестивый и строгий. Платок дынькой, опрятное старое пальто, круглые очки. После вахты на паперти старушка шла в сберкассу и обменивала мелочь на бумажные деньги. А потом она их в этот тайный карман сама зашивала. Молитв старушка почти не знала, в отличие от старшей дочери. И о том, что нужно как-то молиться, даже не думала.
Старшая дочь кафизмы по три в день, включая семнадцатую (о упокоении родственников), и пару акафистов прочитывала. И еще дневное литургийное Евангелие, и главу Евангелия, и две — Апостолов, по ряду. Не говоря уже о кафизме, по ряду двадцатки. Батюшка благословил двадцатку, чтобы все по кафизме в день читали — она и читала неупустительно.
Случилось, что в этом женском семействе оказались близнецы, мальчик и девочка. Непонятно чья двоюродная сестра умерла от рака, а детей привезли им. Героиня — смирение превыше всего — детей взяла. В квартирке стало тесновато — но не то, чтобы очень. Старушка когда-то подсуетилась, и покойный муж как ветеран войны и труда получил хорошее жилье, с балконом. Дети с младшей сестрой очень подружились. Хотя Верочка и была назойлива временами. Девочка как-то сразу, пусть неумело, стала по дому помогать, под окрики героини: ты не умеешь, ты не видишь. Мальчик сам вызвался ходить на рынок и в магазин, под довольное покрякивание старушки. Плохо было одно — денег стало совсем мало, а старушка помогать не думала. Героиня моя тогда взвыла.
― В монастырь уйду! Без меня живите.
Мальчик, у него нрав легкий был, только грустно улыбнулся. А девочка заплакала. Какая работа школьникам. А школа им обоим нравилась.
Настала весна, встретили пасху. Холодная ночь тогда была. Девочке в храме то жарко, то холодно. А героиня знай орет: что ты как нечисть бегаешь!
В современном мире, в этом же городе, такое обращение с ребенком и не представить. Хотя как сказать. Страшных историй много, но не все одинаковые.
Мальчик как-то где-то отсиделся до конца службы. Мальчишке проще. Еще и пирожков дали с собой.
Собралась героиня в паломничество, чтобы к монастырской жизни подготовиться. И детей с собой взяла. А Верочка пледом накрылась с головой и никуда не поехала. Когда же героиня уехала, старушка заскучала. И стала заставлять Верочку перед ней петь и танцевать. Стихов старушка не любила.
Тем временем героиня с детьми добралась до одного монастыря, славного тем, что рядом с ним есть Божия Гора, а на ней источник. Гора не то, чтобы высокая, но полдня до источника ходу — это точно. Киосков с пирожками при монастыре тогда не было. Еду из трапезной отец Егорий выносил ровно в два, а выходить к источнику следовало утром, после ранней литургии, чтобы к вечерней службе вернуться. Так что каши монастырской в этот день не предвиделось. Но что-то у героини было с собою. Фляга воды, буханка дарницкого и соль в пакетике. Ничего скоромного: каяться приехали, а не жрать.
Сейчас мальчики за сорок с хвостиками на затылке на такие рассказы фыр-фыр делают. Мол, какое искажение. И пойдут пельмени с горбушей варить, чтобы, например, картошку не жарить, потому что это высший пилотаж. А тогда люди покрепче моей героини и ее детей были. И ножками свои пути походили — от и до. Сейчас пешком до Лавры из Москвы дойти может кто и решится. Но все равно, с удобствами. А тогда земля с людьми говорила еще.
Словом — лето, красота природная, даже родничок показался. Дошли, попили родниковой воды, умылись, полчаса посидели. Снова встали и пошли. Чем ближе к заветному месту, тем чаще стали встречаться пещерки и гроты. Об одной сказано было, что там подвижник жил. Героиня туда и побежала со всех своих усталых ног. Детям наказала: открывайте молитвослов и читайте канон покаянный.
― Мне голос был: ленивые какие! Не можете две страницы прочитать!
Дети молитвослов открыли. Девочка начала вслух канон читать.
А в пещере говном пахнет. Кого-то прошибло сильно.
― Вот искушение! Сатана и на святых местах бывает! ― Взвыла героиня, ― все мы во власти дьявола! Надо каяться!
Делать нечего, пошли дальше.
На вершине Божьей горы, над источником, сделана и выложена бетоном купальня. Возле купальни очень оживленная жизнь. Толкаются, поталкивают и подталкивают. Раздеваются и переодеваются. Потому что ни будок, ни навесов — а только кустики. Где всякое может быть, в том числе и говно. Потому что сельское, в основном, население. Но для героини это было народное откровение. Потому что где народ, считай: толпа, — там и Господь.
Вода не сильно холодная. Дети с радостью бы окунулись. Но героиня так их застращала грехами и случаями, которые ей ночью в храме рассказали, что купанье прошло — как в страшном кино.
Переоделись — кто где место нашел. Девочка уже задремывать стала на ходу и ныть тихонько начала. Мальчик ее сначала веселил, потом жалел, потом стал раздражаться. Но как-то без ссор до храма дошли. А там вот-вот соборование начнется. Нужно же бесов из себя изгонять. Героиня всех троих записала, взяла свечи и встала со всеми желающими соборования в круг.
Едва запели: исцели ны, Боже, ― девочка хлоп в обморок. И желчь у нее ртом пошла. Ну точно, в ней бес. Ох и стыдно было героине перед всеми. Ох и начала она страдать, что девочка у нее такая бесноватая. Какая-то старушка девочку подняла, лицо платком со святой водой отерла, дала святой воды попить из кружки с петухом и отбитой ручкой. Девочка потом смирно все соборование на своей кофте просидела. В конце соборования вышел сам старец. И все к нему побежали. Даже те, кто семь раз уже помазался. И девочка тоже побежала. Старец посмотрел холодно, помазал девочке лобик, носик, уста, шейку и ушки, сказал строго, но не зло: это седьмой! И ушел.
Возвращались из монастыря — спали. Даже есть не хотелось, а спать. Героиня свои часы золотые перед поездкой продала. Часть на монастырь отдала, часть на требы: год, вечное поминание, псалтирь. А теперь нет-нет, да пирожок купит. И сама поест. Ехала героиня домой и думала о том, что ей старец сказал. Не возьмут ее никак в этот желанный монастырь. Ни трудиться, ни монахиней тем более. Почему — старец так и не объяснил. Вероятно, Божие повеление было такое. Ох и ярилась внутри себя героиня оттого, что не получилось монахиней стать. Детям что — дети спят. У них каникулы. Только мальчик как-то странно покашливает. Уж не заболел ли. Но героиня успокоила себя: пройдет.
А дома оказалось, что все совсем плохо. Старушка от удовольствия покрякивает. А Верочка, раздутая как шар, от боли плачет и уже не встает. Героиня вызвала скорую, даже не отдохнув с дороги. Скорая приехала, Верочку в больницу отвезли, и там она умерла. Загноилось что-то внутри у нее.
― Опять скорби! ― Воет героиня. ― На меня всегда скорби воздвигаются!
Старушка на похороны Верочки дала три рубля с пенсии. Подъезд собрал остальное. Похоронили аккуратно, со скромными поминками. Героиня перед поминками всех гостей попросила помолчать и семнадцатую кафизму прочитала. Все слушали, а кто-то плакал.
― Какая она у вас сердобольная, ― сказал один сосед девочке.
К осени оказалось, что у мальчика серьезная пневмония. К началу рождественского поста он умер. И вот тут старушка заплакала. Потому что перину свою с ее содержимым она мальчику готовила. Впрочем, плакала старушка недолго: умерла к новому году. Обоих к Верочке подхоронили.
А на Крещение — шли каникулы — героиня снова в свой любимый монастырь поехала, и девочку с собой взяла. А та положила в сумку новую ночнушку, сиренево-розовую. Уж если что плохое случится, то в новой ночнушке. Лестница в монастырь была покрыта солидным льдом. Местные как муравьи по ней взбирались, им привычно. Героиня поначалу испугалась такого ледяного подъема. Но надо влезть, потому что иначе не спасешься. Вдруг подошли двое местных мужичков, взяли часть сумок у героини, а им с девочкой дорогу получше показали. Так все и взлетели в монастырь.
― Чудо, чудо, Матерь Божия! ― возрадовалась героиня.
После ночевки, едва не в крещенский сочельник, пошли на Божью Гору. Шли -— скользили. Но дошли как раз к молебну. Девочка тут смелости своей удивилась. Сама, за снежными кустиками, надела свою новую ночнушку, сама прыгнула в купель. А края купели льдом окованы, так что просто так оттуда хода нет. И замечай: выберешься — значит, Господь с тобою А не выберешься, или с чьей помощью — нет тебе помощи Божьей. Девочка похолодела пуще воды, когда ручонки заскользили. Но подтянулась, прыгнула, и рыбкой по льду из купели вылетела. Старухи закаркали: мол, какая хорошая, Божья. Они, старухи эти, и есть народное мнение.
С тех пор мало что изменилось. Какая разница — уборщица была героиня моя или директор школы. Теперь она церковница, и весь день в храме. Она — несгибаемый приходской авторитет. Дитя Божье, и не замай. А все эти, с распущенными волосами, которые платок носить не умеют, они — зелень сиюминутная. Зелень эта смотрит на старушек уважительно, но отстраненно. Ей с ними детей не крестить. Хотя порой приходится.
Много лет прошло. Не раз девочка слышала о благодати и спасении от героини. Но как-то все истошно получалось. А девочка истошного не хотела, потому что сама нервная. И начала путь к Богу заново. Ей повезло: нашелся и священник, и храм, и лавра любимая открылась так, что одна только радость. Потом, конечно, начались мутации. Да такие, что нормальная головенка не сразу примет. Девочка привыкла, что у свечного ящика стоят люди смирные, тихие. Что они не платят за услугу, а жертвуют. А тут такое случилось, что не расскажешь. Свещница, опытная женщина, увидев побелевшее лицо девочки, так и сказала:
― Это вам не девяностые.
Потом стало еще чудесатее. Но какая разница.
Девочка, как покойная Верочка, стала тексты запоминать с лету. К чему это ей. А потому что нравится и хочется петь постоянно. Когда петь хочется — тогда Божия гора и есть. Впрочем, паломничество ― дело хорошее. Хоть поездом, хоть автобусом.
Конец марта
Одинокая женщина в храме это всегда драма. Тяжелая, пошлая, непонятная семейным людям — но драма. Не нужно верить кому попало, тем более прихожанам, что о ней заботятся. А если женщина не пожилая, и на нее кому-то для чего-то не указал местный корифей в чине протоиерея, а ей едва тридцать, то пиши пропало. Была женщина — и нет. А что осталось, уточнять не будем. Саламандра, фея — словом, нечисть.
Героине моей было тридцать пять, когда с ней произошло одно довольно странное событие, в котором, по сути, она была сама виновата. А не нужно было слушать подругу. Не нужно было ходить к этому “благодатному” старцу, который лишь лет на пять старше нее. Но она послушала, и она пошла.
Она никогда ни о чем не жалела. Но во всяком “никогда ни о чем” случаются провалы. Так было и с ней. Однако это был достойный провал: глубокий, серьезный и недолгий. Она пожалела о потерянном времени. Потому что посчитала, что не готова, а надо было идти. И пока она стояла, раздумывая, сделать шаг или нет, — время ушло и больше не вернулось.
Но как продираться через работу, заболевание, которое потом дало о себе знать, воспаленные отношения — через оголенные и обезвоженные нервы бытия, да еще в канун пасхи. Однако она не сошла с ума, а могла бы. И вскоре выкарабкалась на поверхность. Но воспоминания остались. Они не беспокоили. Они лежали необходимым балластом, пшеницей в трюме ее души. Изредка лишь порождали довольно странные мысли.
В самом начале событий, подлежащих описанию, героиня стояла в любимом храме. Уклад православных богослужений и особенности поведения она знала по смятым как тетрадный лист детству и юности.
Мать готовила ее в монахини, но у матери не хватило последовательности и воли, чтобы засунуть дочь в монастырь. А там подошло среднее специальное образование, и дочь растворилась в нем, как капля чернил. А затем у младшей сестры матери родилась внучка, которая и заняла все мысли матери. Дочь так и осталась в растворенном состоянии. Мать делала вид, что все хорошо. Но хорошо не было.
И вот теперь, вечером великой среды, дочь стояла в храме с голубой греческой лампадкой в руках. Лампада такая тогда в новость была. Дочь смотрела и слушала, и совершенно не хотела выходить из храма.
Однако нужен был еще кто-то — между Тем, перед Кем стояла она с лампадой, и ею самой. Посредник.
Священнику было восемьдесят девять лет. Он еще хорошо стоял на ногах, глаза были ясные, голос довольно звонкий для его лет. Он был вдовец уже лет тридцать. И, как говорили обожавшие его чада, аскет.
Но она видела только сияющую седину над свечами — облако особенно чистого и ясного света, в которое так или иначе попадали все, кто в храме находился. И ей порой хотелось подойти, нарушив богослужение, спросить священника. Но о чем. Она и сама не знала. От матери она слышала, как где-то на дальних святых местах, в монастыре или в приходской церкви, старушки и старики порой вставляли свои возгласы в богослужение. И священник отзывался на них, как было благоприлично. Мать видела в этом подлинность, или иначе — соборность. Но мать над этим словом не задумывалась.
Дочь так и вышла из храма, почти последней, с зажженной лампадой, и пошла к остановке. Потом заметила, что лампада горит, но даже обрадовалась: пусть горит. От этого храма почти до ее дома шел троллейбус. Она села в троллейбус с лампадой, пробила бумажный билет, и ни водитель, ни пассажиры не сделали ей замечания. Дома она поставила лампаду на кухонный стол и долго, не раздеваясь, сидела, на нее глядя. Потом фитиль лампады стал меньше, и его накрыла волна ароматизированного ладаном парафина. Вскоре фитиль погас. Героиня переоделась, постояла перед плитой и достала из духовки сковородку. День очень постный. Но как хочется жареной картошки.
Кошмары детства уже не довлели над ней, но иногда пережитое давало о себе знать. То она моется в грязной от фекалий после клизм, кое-как почищенной, ванной больницы. Они с матерью приехали к старцу на край Союза. Одна верующая медсестра приютила их на ночь в пустой палате и позволила девочке помыться. Потому что девочка очень хотела помыться.
― Нельзя после храма мыться, смываешь благодать! ― сказала мать. А медсестра дала вафельное чистое полотенце.
То она сидит поперек унитаза и никак не может опорожниться, потому что от усталости свело всю нижнюю часть тела. То пробирается по кромке педали общественного туалета какого-то монастыря, потому что пост, и дерьма было очень много. То кричит, потому что ее укусил клоп, живущий в матрасе гостиной другого монастыря, а надо вставать на братский молебен в скит. Тогда она приехала в час ночи, а молебен начинался в пять.
То она стоит в слезах перед бодрым усатым заслуженным священником, ошарашенная поведением паломников, и лепечет почти отчаянно: мы же не христиане, а. Священник только усато улыбается.
И еще она видит во сне, как ей хочется спать. Почти каждую ночь во сне она видит, как ей хочется спать. Но теперь уже вторая половина страстной, завтра — великий четверг, а она еще не готова. Жаль, что не готова.
― Вы сердечница? ― Спросила ее как-то нарядная женщина неопределенных лет, судя по всему ― церковница. Глядя на бледность и крупный холодный пот, так можно было подумать.
― Нет, ― ответила она, ― просто устала.
После ранней литургии в великий четверг нужно идти на работу. Двоюродный брат устроил ее в новый банк, на какую-то смешную должность, вроде помощника администратора ресепшн. Взять за свой счет она тогда не догадалась, а в среду вечером звонить и просить отпуск было поздно.
Картошка получилась так себе, но к еде она почти всегда была равнодушна. Любила филе-о-фиш в Макдональдсе и не понимала пельмени с соей и с окарой, которые подавали в приходской трапезной, куда ее периодически затаскивала бодрая знакомая. Чтобы приобщиться благодати. Ни с того, ни с сего вспомнилось ей, над картошкой с чаем и мармеладом, как один полный священник сказал решительно:
― Перед причастием три дня рыбу есть нельзя!
Про еду на исповеди она тогда ничего не сказала. Просто, вероятно, очень тихо говорила, а священник услышал нечто свое.
На великий четверг несмотря на то что храм был небольшой, что называется — домовый, а народу было больше, чем много, — исповедь и причастие прошли стройно и мирно, без лишних ссор и выяснений. А в большие праздники тогда шума, не относящегося к богослужению, было много. Но таково было свойство того храма и настоятеля: там все было стройно.
Давешняя церковница подошла к ней и сказала:
― Батюшка, может, выйдет сейчас. Давай отведу к нему.
― Да я уж причастилась, ― ответила она.
Но тут словно из пены человеческой возникла бодрая знакомая и уверенно сказала:
― На двенадцать евангелий идем туда-то, ― и назвала храм.
Знакомой казалось, что настоятель того храма именно тот священник, который нужен и ей самой, и героине.
Священник оказался молодым, привлекательным внешне, как рисунок Бакста, говорил жеманно, вращал огромными глазами и вообще был артист. Что не мешало ему быть даже для пожилых (в основном интеллигентных дам с высшим образованием) и кумиром, и святым. На героиню он посмотрел как-то вскользь. Она ему сразу не понравилась: слишком задумчивая, слишком тихая. А в таких точно черти водятся. Священник чертей не хотел. Героине этот батюшка показался волшебным, чудесным — словом, в нем ничего не было от тех попов и монахов, к которым тянуло ее мать.
И начались три года морока. Нужно было уйти сразу, нужно было стряхнуть с себя этот морок, а она погружалась и погружалась. Она теряла время, и ей было тогда сладко его терять.
Героиня привела к этому священнику свою мать, в надежде счастья в семье и мира. Но священник говорил только с матерью, лицо которой сияло так, как дочь никогда не видела. А на нее тот батюшка даже и не взглянул. Это был первый момент отстранения от того, кого она хотела видеть духовным отцом. Что-то или Кто-то подсказывал ей, что священник этот в отношении нее ошибается на триста процентов. Почему триста: чтобы тройка была. Можно сказать — и на тысячу процентов ошибался.
Но героиня уже попала в зависимость от его манеры говорить, его фокусов, к которым едва ли каждый месяц прибавлялись новые, от настроения знакомой, которая батюшку боготворила. Она писала от руки длинные, полные доверия и теплоты, письма, рассказывала о себе. В процессе письма укоряла себя, что не может не упоминать о матери и о том, что творила с ней мать. Ведь для священника мать всегда права. Но героиня и не возражала против такой расстановки фигур. По факту матери-то у нее не было.
Батюшка поначалу отодвигал героиню ее на задний план. Как-то спросил, ни к селу, ни к городу: вы готовитесь ко святому крещению? Затем стал игнорировать и отчасти даже посмеиваться. Кризис готовился долго, но развернулся мгновенно, недели за три до страстной.
Наступил холод, северный ветер со снегом. На Сорок всегда холодно. Героиня каждый год искренне изумлялась: почему не замечают, что на Сорок всегда похолодание? Ведь это так важно. Это же ледяное озеро с неба для явления в нем всеобщей христианской любви.
После литургии приходской народ, как обычно, скучился возле батюшки, а батюшка убегал от своего тщеславия, не в силах совладать с народом. И героиня бежала тоже, изо всех сил. Потому что ей нужно было задать очень и очень серьезный вопрос. Потом, когда все прошло, она уже и не помнила, какой вопрос она хотела задать. Есть она не хотела совсем, уже неделю. Только хлеб с чаем, потому что это она есть могла. Сон у нее почти пропал: подремлет минут сорок, и просыпается в слезах и тревоге. Но она бежала к батюшке и держала перед собою записку. Это уже начало походить на провокацию.
Батюшка обернулся, как-то некрасиво ухнул и дал ей кулаком в глаз. Родительское наказание. Воспитание смирения. Она упала в растоптанный снег, но скоро, как котенок, поднялась и отползла, потому что ходила плохо, в сторону. И сказала вслух. Громко, как бы покрикивая.
― Теперь я понимаю, почему дети плачут в храме. Они боятся, что их задавят. Им плохо в храме. Не носите детей в храм, они боятся, что их задавят.
Волна ужаса окружила ее. Все прихожане, которые неслись вскачь за батюшкой, отшатнулись, попадали друг на друга, но немного. А он скрылся под шумок за волшебной своей дверцей.
Мать рассказывала, что где-то в Украине, в каком-то монастыре был один старец. К нему приводили дочь местного цыганского барона в надежде исцеления. Та, считали местные, бесноватая. Так вот, едва эту девушку подводили к солее, она начинала кричать. Что-то незлое, по делу — но громко и грозно. А старец с неслыханной для его лет быстротой скрывался в алтаре. Чем закончилась такая история исцеления бесноватой, та дочь не помнила. Но как-то она закончилась. Иначе и быть не могло.
Героиня после удара в глаз быстро пришла в себя. Она знала, с детства, что может вывести из себя кого угодно, сама того не желая. И потому решила убрать себя с глаз долой, скрыться от прихожан и батюшки — поспешила домой. Сделала чай, взяла белую булку и поела. Потом легла спать. Проснулась в тревоге и в слезах, и снова поела белой булки с чаем. Заставила себя выйти в магазин, купить гречку и хлеб. Сварила кое-как кашу, снова поела и легла спать. И снова проснулась в слезах. В пятницу, неожиданно или нет, вспомнила, что нужно читать правило ко святому причащению. Сделала чай, поела хлеба и уютно легла на диван, завернувшись в плед и покрывало. И прочитала все правило. В субботу она проснулась снова в слезах и тревоге, думала пару часов, как ей быть. И как бы сама собою поехала в центр города. В первый попавшийся храм. И морок отошел от нее. Не целиком, но отошел. Остались воспоминания, которые скоро смягчились.
Пожилой священник, к которому героиня так и не попала на исповедь, скончался с великой пятницы на великую субботу. На светлой неделе скончалась мать героини, от чревной болезни, в муках. После героических постов давних лет мать ела все что попадется и в больших количествах. За едой любила рассказывать, как она при Брежневе возила в монастырь овощные консервы. А однажды ее благословили съездить за покупками вместе с монахиней. Увидев, что та взяла три банки шпрот и две банки кабачковой икры, мать изумилась: для странных? Нет, ответила монахиня, для себя. Вечером, на глазах матери, монахиня все это и съела с хлебом. Целый батон.
Героиня видит теперь в храме совершенно других людей. Эти женщины, ровесницы ее покойной матери, как будто и не жили в стране, где шла такая мощная, разнообразная и порой страшная религиозная жизнь. Будто они и не родились в этой стране. Что уж говорить о молодых. Чужой мир. Чужие люди. Но героиня знала, что с ними ей идти на смерть, если что. Что это братья и сестры. Матери и отцы. Это ее дети. Но как они все далеко. Как далеко.
Январь в том году выдался сумрачный, пасмурный. Но вот, в двадцатых числах, внезапно выглянуло солнце. И легло сразу после восхода на воскресные плиты пола в храме.
― И сущия во тьме и сени смертней просветил еси. ― Пели на клиросе.
Немного утомленно, но очень стройно, негромко и без разрыва какого-то высшего дыхания, как сказала бы героиня.
“Как хорошо поют. И как это верно: просветил.” ― Подумалось ей. ― “Потому что когда не было света, была лишь тревога и неясность. Не было видно опоры. А свет показал ее. И теперь все должно быть по-другому, и я тоже. Пусть не всех коснется этот свет. Никогда не будет, чтобы просветились все и сразу. Но свет уже есть. И как это было, совсем недавно, пели, так же: “седящие во стране и сени смертней, свет воссияет на вы”. Как это важно, чтобы был свет. Чтобы был Господь с нами. С нами Бог”.