Анна Аликевич
Поэт, прозаик, филолог. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького, преподаёт русскую грамматику и литературу, редактирует и рецензирует книги. Живёт в Подмосковье. Автор сборника «Изваяние в комнате белой» (Москва, 2014 г., совместно с Александрой Ангеловой (Кристиной Богдановой).
«И неважно, что смысл пропадает…»
Об антологии «Новая итальянская поэзия с 1980‑го до наших дней». — М.: ИИК — Типография Левко, 2023.
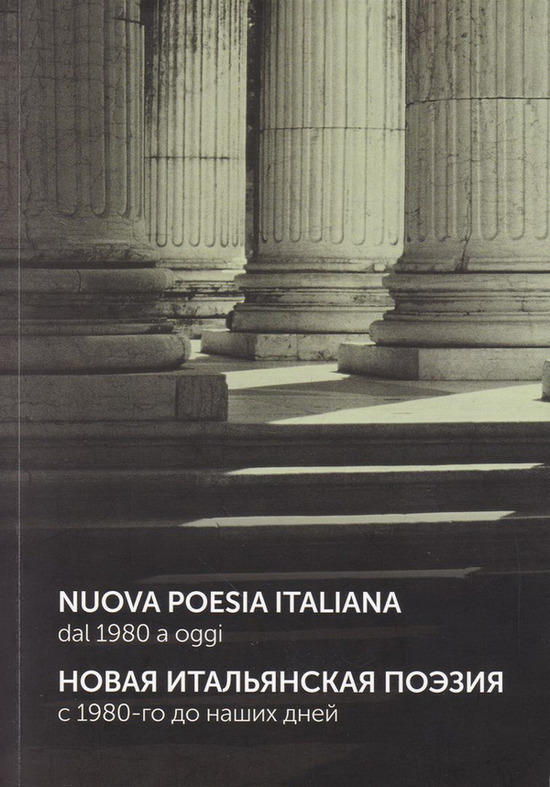 Антология итальянской поэзии с конца 1980-х гг. по наши дни, изданная ИИК, представляется мне изданием, не имеющим в настоящее время аналогов. Она сочетает обучающую, просвещающую, экспериментальную, эстетическую и научную функции. 17 наиболее известных итальянских авторов (впрочем, у нас даже их знают лишь узкие профессионалы) представляют поэзию своей родины как неоднородную, шокирующую, выходящую за рамки национальной культуры и традиции, богатую новаторством, поражающую глубиной и актуальностью. Не нужно пугаться — книга далека от политики, речь о развитии поэтической речи, поисках языка и единстве античной, европейской и мировой традиции мелоса. Все авторы — современники поколения 50-60-х. Некоторые женщины выпустили свою первую книгу в 30 лет. Кто-то работал тюремным преподавателем. Иной — половину сознательной жизни провел в глубинке, в сельской местности. Известную поэтессу удочерили в возрасте около года, и благодаря знанию об этом травме, полученном после совершеннолетия, она начала писать. Один, как Мило Дель Анджело, наполнен красотой плоти, жизни, телесности. Римский, спартанский образ бегуньи Донателлы делает его стихи подобными античным олимпийским гимнам. Мы вспоминаем великие и постыдные страницы истории Италии — все они внесли вклад в полноту ее лирики. Культ тела — не только плодородие, процветание, сила, жизнь, но и забвение о важности души, с которой воспетая бегунья едва не простилась, импульсивно попытавшись наложить на себя руки после внезапной потери работы. Мы близки с описываемым миром — и в то же время далеки. Культура, образование, античность — приобретенные нами глубины роднят нас с плотью Италии, однако есть нечто только свое, что недоступно чужеземцу, возможно, иное понимание сакрального. Однако культ благоденствия, близкий 50-м послевоенным годам не только у нас, но и в Штатах, Италии, Германии, не стоит осуждать за «поклонение сытости», которой дети этих стран, часто сироты войны и послевоенной бескормицы, не знали. Понимание, откуда идут такие «приземленные» мотивы в лирике некоторых образованных, столичных авторов наследницы Рима, приходит из биографий поэтов — ежеденный тяжелый труд родителей, умершие от истощения соседи, единственная мечта отцов: досыта накормить семейство — все это находит отголоски в более позднем поколении, творчество которого мы читаем сегодня.
Антология итальянской поэзии с конца 1980-х гг. по наши дни, изданная ИИК, представляется мне изданием, не имеющим в настоящее время аналогов. Она сочетает обучающую, просвещающую, экспериментальную, эстетическую и научную функции. 17 наиболее известных итальянских авторов (впрочем, у нас даже их знают лишь узкие профессионалы) представляют поэзию своей родины как неоднородную, шокирующую, выходящую за рамки национальной культуры и традиции, богатую новаторством, поражающую глубиной и актуальностью. Не нужно пугаться — книга далека от политики, речь о развитии поэтической речи, поисках языка и единстве античной, европейской и мировой традиции мелоса. Все авторы — современники поколения 50-60-х. Некоторые женщины выпустили свою первую книгу в 30 лет. Кто-то работал тюремным преподавателем. Иной — половину сознательной жизни провел в глубинке, в сельской местности. Известную поэтессу удочерили в возрасте около года, и благодаря знанию об этом травме, полученном после совершеннолетия, она начала писать. Один, как Мило Дель Анджело, наполнен красотой плоти, жизни, телесности. Римский, спартанский образ бегуньи Донателлы делает его стихи подобными античным олимпийским гимнам. Мы вспоминаем великие и постыдные страницы истории Италии — все они внесли вклад в полноту ее лирики. Культ тела — не только плодородие, процветание, сила, жизнь, но и забвение о важности души, с которой воспетая бегунья едва не простилась, импульсивно попытавшись наложить на себя руки после внезапной потери работы. Мы близки с описываемым миром — и в то же время далеки. Культура, образование, античность — приобретенные нами глубины роднят нас с плотью Италии, однако есть нечто только свое, что недоступно чужеземцу, возможно, иное понимание сакрального. Однако культ благоденствия, близкий 50-м послевоенным годам не только у нас, но и в Штатах, Италии, Германии, не стоит осуждать за «поклонение сытости», которой дети этих стран, часто сироты войны и послевоенной бескормицы, не знали. Понимание, откуда идут такие «приземленные» мотивы в лирике некоторых образованных, столичных авторов наследницы Рима, приходит из биографий поэтов — ежеденный тяжелый труд родителей, умершие от истощения соседи, единственная мечта отцов: досыта накормить семейство — все это находит отголоски в более позднем поколении, творчество которого мы читаем сегодня.
Вивиан Ламарк, прекрасный поэт, в котором мы слышим отзвуки такого гения, как Сильвия Плат, погружается во внутренний мир женской души — полнокровной, чувственной, но и скорбящей, и глубокомысленной. В Тестаментуме она просить дочь проделать окошки в ее гробнице, чтобы смотреть на смену светил. Своего мимолетного сердечного друга она именует частью своей коллекции мыльных пузырей, проявляя европейскую феминизированность, за которой, однако, кроется каждой женщине понятная боль оставленности, преданности, утраты. Не только любовные приключения, мысли о дочери, страх смерти тревожат ее — но и мечты о милосердном мире, в котором ее старая мать получит достойную медицинскую помощь, возможно, ничего не меняющую в сути, но дающую ей комфорт и уважение. Зрелая, образованная, неравнодушная к тревогам мира, но имеющая мудрость принимать неизбежность личность видится в этой фигуре.
Другой крупный поэт антологии — мрачная, с культом Танатоса, хтоническая бездна Антонелла Анедда. Ее дар столь же велик, сколь и разрушителен, а образ, до конца не постижимый, но завораживающий, связан с вглядыванием в потусторонние реальности и смерть. Мы вспоминаем Испанию с ее погребальными культами и тщету всего земного, родство эроса и танатоса, интуитивные страхи и суеверия, в которые, кажется, мистериальная поэтесса заглядывает глубже, чем допустимо смертному. Индивидуальность, визионерство ее образов раздвигает границы как традиционной поэтики, так и философии, хотя, конечно, невозможно не заметить ее связи с латинской классикой. Эти два поэта, словно полисы жизни и смерти, удерживают вертикаль книги.
Неунывающий, юмористический, иронический Умберто Фиори смешит нас, напоминая, что мы не на похоронах, научном заседании или партийном собрании. Что поэзия — это вообще-то весело, коротко, брызжет жизнью и молодостью, а не мрачные вирши для усопших. Напоминая в чем-то Уфлянда, он описывает заурядные, комические сценки из своей жизни: уличную стычку, неспособность договориться с другом по сломанному телефону, тщетные попытки добиться девушки. Мы видим не Нарцисса или Антиноя, обнявшегося со своей высокой лирой, но маленького человека, не примечательного, как ты да я, но, вместе с тем, никогда не падающего духом, исполненного искрометной жизни и любви к ней.
Благодаря последнему автору книги мы вспоминаем, что поэзия — это не только высокое для высоких, но и народное, то есть не то чтобы крестьянская песня для едока картофеля, но понятная среднему интеллигенту история без языкового новаторства и сюжетной эквилибристики. Это было сотню раз, и каждый раз, как у Евтушенко, мы находим к этому интерес, даже испытываем успокоение, что в мире все в порядке, его законы работают, люди встречаются и влюбляются, шар земной крутится. Невеликий, нет, но приятный глазу и уму автор рассказывает о подружке юности, которую погубили наркотики. Вспоминает модель, красота которой дала ей только погибель. Печалится о своей обычности, заурядности, простом происхождении, но говорит известную мудрость, что выдающийся человек априори трагичен, и только заурядность порой плата за долгую жизнь.
Поскольку составитель ориентировался на новые явления, на то, чем авторы отличаются, и избегал традиционных, «кондовых» мотивов, как и должно быть при единстве разных, но равных талантов, мы получили представление о выходящем за рамки типичности. Конечно, одна из главных заслуг книги — обширно представленное женское творчество, его выражено экспериментальная поэтика, не везде понятная нам — и вдобавок не всегда принимаемая! Когда мы читаем Патрицию Вальдугу, в почти непристойных выражениях описывающую свой половой акт, несмотря на всю раскрепощенность нашу и цивилизованность мы поеживаемся — «скромнее надо быть!» Эксперимент экспериментом, но есть же и мера. Так отечественная консервативность сказывается в нас в самый неожиданный момент — если бы это еще был мужчина-поэт! Но женщина идет дальше и в плане языкового слома: юная поэтесса переходит на прозаический поток сознания, пытаясь донести образ большого города, в котором никак не приживется, несмотря на всю свою современность. Эпоха быстрых освобожденных отношений и одноразовых дружб, огней мегаполиса, условного равенства возможностей для обоих полов и всех сословий, словом, время миллениалов — соседствует с теми, кто принадлежит поколению беби-бумеров — они новаторы, но иначе, в поиске, но иначе. Адище европеизированного города и идиллия горной деревни предков, приземленное счастье сытного ужина и молодого женского тела — и наслаждение древними книгами, размышлениями о потустороннем, наукой, культурой; попытки воскресить гимн, элегию, сонет — и переход в поточную прозу, разорванную, графические игры, непереводимые на другие языки. Конечно, такой мы ее не знали. Поэзия Италии великая, но мало известная нам… в последние века. Ее культура, так уж вышло, куда более повлияла на нас через кинематограф. Поэзия стала в нашу эпоху лишь небольшим зеркальцем, которое покупает ценитель, да и штиль поэта замысловат, обращен не всегда к другому, тем более к массам, открытие становится экзотикой для круга избранных, и порой лишь кинофильм приносит нам песню на знаковые стихи. И в этом есть некая несправедливость, что глубина и новаторство этих душ будут постигнуты таким небольшим кругом, но, вероятно, так судили боги, даруя свои сокровища избранным.
Снято на старую пленку в гимназии
вот она: девушка-воин
всегда в атаке.
Дымовые сигналы, костры бивуаков,
хрусталь с духами в помойку.
Поклонница рисков и баров, игр
на ловкость, студенческих первенств
с мгновенной победой: девять секунд
с шестиметровым отрывом.
И я, на уроке, увидев ее в забеге
(«Восемьдесят за девять секунд,
ей пятнадцать, невероятно!»),
я сразу прозвал ее Аталантой*.
Стефания Анновацци
ее настоящее имя
но чаще звали ее Стефанеллой.
А для всех нас — воплощенье
божественной юной походки.
(Мило Де Анджелис)
Я населяю свой ум,
как рачительный землевладелец.
День напролет пекусь
о будущем урожае,
плодородность земли — моя плодовитость.
А перед сном
озираю посевы,
как тот, кто бережет
свой образ.
Мой ум населяет меня,
молчаливый владелец своих территорий.
(Валерио Магрелли)
За столом
ребенком
подростком
чтобы не разговаривать сама с собой
она разговаривала
с синьорой Вилкой
и мужем синьоры Вилки Ножом
будь то за обедом
будь то за ужином
потом она выросла и перестала
разговаривать с нержавеющей сталью
открывая нечасто ящик, где притаились
ложечки, эти жестокие дети.
(Вивиан Ламарк)
Камень за камнем
и ты строишь то, что не нужно
ничему и никому, но зачем-то оно существует.
Может, прискачет горный козел
и обнюхает нервно следы твои;
постоит миг в смятенье
и скроется вновь среди скал
неприступных, почти вертикальных.
Я смогу его видеть, погладить по морде?
Он придет на заре или ночью, а потом убежит. На земле
он оставит нам в дар свой помет
из бурых кусочков и в воздухе запах дичи.
(Фабио Пустерла)



