Гуманитарные итоги 2010-2020. Книга десятилетия. Часть I
Портал Textura начинает серию опросов, направленных на исследование гуманитарных итогов прошедшего десятилетия (2010—2020 гг.) В первом выпуске — опрос о главной книге десятилетия. Мы задали тридцати экспертам — литературным критикам, филологам, писателям, — три вопроса:
1. Какую книгу (одну: в прозе, поэзии, нон-фикшн, российскую или переводную) Вы бы назвали «книгой прошедшего десятилетия» (2010—2020)? Чем она для Вас важна в личностном смысле — и чем в литературном?
2. Расскажите, пожалуйста, об истории Вашего знакомства с этой книгой.
3. Как Вы думаете, имеет ли смысл в контексте кризиса культурного перепроизводства, который уже стал общим местом, говорить об «общезначимости» в связи с конкретной книгой? Что Вы вкладываете в понятие «общезначимость», если признаёте его в принципе?
В этом выпуске читайте ответы Михаила НЕМЦЕВА, Егора МИХАЙЛОВА, Сергея КОСТЫРКО, Вадима МУРАТХАНОВА, Игоря КИРИЕНКОВА, Андрея ТАВРОВА, Анатолия РЯСОВА, Кирилла АНКУДИНОВА, Кирилла КОБРИНА, Александра МАРКОВА, Ольги БАЛЛА-ГЕРТМАН, Андрея ВАСИЛЕВСКОГО.
Ответы Евгения АБДУЛЛАЕВА, Светланы МИХЕЕВОЙ, Константина КОМАРОВА, Марии БУШУЕВОЙ, Алексея КОЛОБРОДОВА, Анаит ГРИГОРЯН, Булата ХАНОВА, Валерии ПУСТОВОЙ, Ольги БУГОСЛАВСКОЙ читайте во второй части опроса, планируется также третья.
Михаил НЕМЦЕВ, поэт, философ, исследователь теоретической и прикладной этики социальной памяти, публицист, педагог:
АЛЕКСЕЙ МАКУШИНСКИЙ. «ПАРОХОД В АРГЕНТИНУ»
1. Думаю, что словосочетание «книга прошедшего десятилетия» конечно, имеет смысл, даже два смысла: личностный и общесоциологический. Я читаю не так много и обычно в силу каких-то лично моих внутренних нужд или потребностей, совершенно вне общих порывов или мод. Поэтому для меня «книгой десятилетия» может стать книга, написанная когда-то давно, а прочитанная мной только вот в этом десятилетии. При этом я, конечно, постоянно читаю мнения и текущие обсуждения и вижу, что они концентрируются вокруг каких-то книг. И я могу их назвать «книгами десятилетия» попросту потому что другие их такими называют. Исключительно с опорой на чужое мнение. Множество оценок и задумчиво-положительных высказываний сгущаются и образуют что-то вроде ауры, и я огладываюсь сейчас на эту ауру. С культурно-социологической точки зрения, так и появляются «книги десятилетия». Суждения о том, что темы, язык и пр. формальные и содержательные аспекты этой книги как-то по-особому выражают именно это десятилетие и, возможно, даже его итожат, появляются часто уже тоже с оглядкой на эту ауру. Рационализация задним числом.
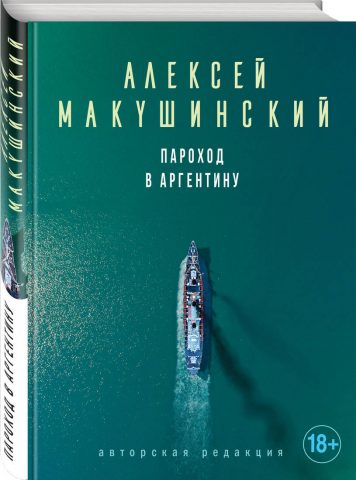 И я вижу, что для многих уважаемых мной людей такой книгой стала «Памяти памяти» Марии Степановой. Я её не читал, потому что и так уж слишком много думаю о памяти и семейных историях. Что касается лично меня, то с учётом несинхронности моих внутренних процессов десятилетию, такой «книгой десятилетия» для себя я готов назвать роман Алексея Макушинского «Пароход в Аргентину». Но дать развёрнутое обоснование такому выбору я не могу. Десять лет назад я прочитал «Невыносимую лёгкость бытия» Милана Кундеры и она очень чётко именно что провела черту под десятилетием моей жизни. Под этим десятилетием, которое завершается, я «про себя» черту провести не могу. Есть книга, пусть не «характерная», но примечательная для этого «моего» десятилетия, я её назвал. Может быть, «примечательности» — достаточно?…
И я вижу, что для многих уважаемых мной людей такой книгой стала «Памяти памяти» Марии Степановой. Я её не читал, потому что и так уж слишком много думаю о памяти и семейных историях. Что касается лично меня, то с учётом несинхронности моих внутренних процессов десятилетию, такой «книгой десятилетия» для себя я готов назвать роман Алексея Макушинского «Пароход в Аргентину». Но дать развёрнутое обоснование такому выбору я не могу. Десять лет назад я прочитал «Невыносимую лёгкость бытия» Милана Кундеры и она очень чётко именно что провела черту под десятилетием моей жизни. Под этим десятилетием, которое завершается, я «про себя» черту провести не могу. Есть книга, пусть не «характерная», но примечательная для этого «моего» десятилетия, я её назвал. Может быть, «примечательности» — достаточно?…
2. История знакомства с этой книгой проста. Я участвовал в интервью с её автором, после этого пошёл и купил эту книгу в магазине, чтобы прочитать самому про события, сцены, о которых услышал в интервью. Вот и всё.
3. «Общезначимость» книги или другого произведения — это, на мой взгляд, часть уходящего мира, уходящего представления о культуре. Я бы хотел, чтобы он не уходил, ведь моё поколение его застало, и в детстве навсегда мы в него и поверили, но с тех пор сквозь тот мир навсегда пророс новый. Там и тогда были книги, которые читали «более-менее всё», авторы и, более широко интеллектуалы, чьё мнение было актуально для более-менее всех. В некоторых из этих книг, написанных некоторыми из этих авторов, большие группы людей, целые поколения обнаруживали что-то важное для себя. Так что потом при описании всей этой группы людей и этой (длинной или короткой) эпохи можно было сослаться на эти книги. Это и были «общезначимые» произведения. На мой взгляд, эта «общезначимость» объясняется исключительно социологически и не имеет эстетического смысла. Но теперь уже людей и со-обществ слишком много, чтобы какое-то отдельно взятое произведение стало бы «всеобщим». Иными словами, больше нет и уже не будет канонических, «эпохальных», «общезначимых» произведений о современности. Я не буду категорически на этом настаивать. Возможно, политические и культурные процессы пойдут в скором будущем как-то так, что для людей станет критически важно объединяться вокруг некоего единственного произведения (романа, фильма и т.д.).
Егор МИХАЙЛОВ, литературный критик, редактор раздела «Мозг» портала «Афиша-Daily»:
АННА СТАРОБИНЕЦ. «ПОСМОТРИ НА НЕГО»
 Странным образом, если бы вы попросили выбрать три, пять или десять книг, сделать это мне было бы сложнее, чем найти одну. Для меня книгой, к которой я постоянно мысленно возвращаюсь, однозначно стала «Посмотри на него» Анны Старобинец. В ней сошлось много всего: это и прекрасный (героический, в общем-то, с учётом уровня табуированности темы) автобиографический текст, и мастерская журналистская работа и — о чём в разговоре про эту книгу всё время забывают упомянуть — великолепная с чисто профессиональной точки зрения литература. Эта книга маркировала и перелом в карьере автора: до этого Старобинец ходила в «наших стивенах кингах», теперь она — звезда детской литературы (и то, и другое ей совершенно очевидно по плечу).
Странным образом, если бы вы попросили выбрать три, пять или десять книг, сделать это мне было бы сложнее, чем найти одну. Для меня книгой, к которой я постоянно мысленно возвращаюсь, однозначно стала «Посмотри на него» Анны Старобинец. В ней сошлось много всего: это и прекрасный (героический, в общем-то, с учётом уровня табуированности темы) автобиографический текст, и мастерская журналистская работа и — о чём в разговоре про эту книгу всё время забывают упомянуть — великолепная с чисто профессиональной точки зрения литература. Эта книга маркировала и перелом в карьере автора: до этого Старобинец ходила в «наших стивенах кингах», теперь она — звезда детской литературы (и то, и другое ей совершенно очевидно по плечу).
К сожалению, книга важна и тем, что высветила очень неприятное нагноение в области окололитературной коммуникации: оказалось, что разговор про «Посмотри на него» — с литературной ли точки зрения, с журналистской, с какой угодно, — почти невозможен, он моментально вылетает с поля профессиональной дискуссии прямиком на поляну склок и разборок. Можно по-разному объяснять это, но факт есть факт: обнаружилась ещё одна болевая точка, которая никуда за годы не делась, даже осмыслена толком не была.
Моё знакомство с книгой было сопряжено с одним очень важным обстоятельством: так вышло, что я прочитал её в ночь после смерти Александра Гарроса, мужа Анны и героя книги. «Посмотри на него» заканчивается в Берлине, где Гаррос проходил курс облучения и химиотерапии; «Лечение проходит успешно, но что будет дальше, мы не знаем», — пишет Старобинец, а я-то, читатель, уже знаю. Конечно, это важный эмоциональный момент, который поначалу очень сильно влиял на мою собственную способность в полной мере оценить книгу: сложно рассуждать о литературной ценности текста, когда невозможно отстраниться из контекста реальной совсем свежей трагедии. Но время идёт, а книга всё ещё живёт в моей памяти именно что как хороший и важный текст — которым он и является.
Что до третьего вопроса, то, согласно словарному определению, общезначимость — это «свойство логической формулы, состоящее в том, что эта формула истинна при любой интерпретации входящих в неё нелогич. символов». Я не вижу способа перевести этот прекрасный математический термин в область искусства и культуры так, чтобы он не потерял всякий смысл. Я очень рад, что ни одну книгу — ни «Войну и мир», ни «Петровых в гриппе…», ни «Библию», ни «Гарри Поттера…» — нельзя назвать общезначимыми. Оно и не нужно. Эти книги важные и в какой-то степени культурообразующие, но тем и хорош реальный мир, что ничего по-настоящему общего в нём нет, есть много частных элементов, которые причудливо друг с другом взаимодействуют, — так культура и работает.
Сергей КОСТЫРКО, прозаик, эссеист, литературный куратор проекта «Журнальный зал», член редколлегии журнала «Новый мир»:
КНИГИ В. Г. ЗЕБАЛЬДА
1. В качестве краткого предуведомления: я не очень представляю, что такое «книга десятилетия». Если воспользоваться понятиями ушедших, — безвозвратно ушедших, надеюсь, — десятилетий, то это, видимо, должна быть книга, в которой читателю будет явлен образ нового героя «из современности», чтобы массам было «делать жизнь с кого». Я таких книг не знаю. Чтобы проверить себя, я просмотрел списки лауреатов премии «Большая книга», премии специально учреждённой для поиска «главных книг» года, и не обнаружил ни одной, которую мог бы назвать «книгой десятилетия». Мне кажется, что выбор наиболее значимой для каждого из нас книги — это выбор сугубо личный, «единичный».
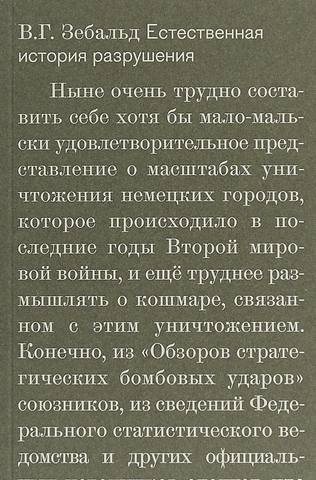 Что касается моего выбора, то оригинальничать здесь не буду, — для меня в последние годы самым значительным чтением оказалось чтение книг В. Г. Зебальда («Аустерлиц», «Кольца Сатурна», «Головокружения», «Естественная история разрушения»). Во-первых, это читательское наслаждение. Во-вторых, проза Зебальда, на мой взгляд, — явление исключительно важное для современной литературы: Зебальд-художник смог найти язык для разговора со своим временем. Ну а в частности, чтение его прозы освобождает нас от стереотипных представлений о художественной литературе. Ибо что пишет Зебальд? Исторические очерки? Путевую прозу? Литературоведческие исследования? Лирико-исповедальный поток сознания? Он пишет своё проживание современного мира и его культуры, не больше, но и — не меньше.
Что касается моего выбора, то оригинальничать здесь не буду, — для меня в последние годы самым значительным чтением оказалось чтение книг В. Г. Зебальда («Аустерлиц», «Кольца Сатурна», «Головокружения», «Естественная история разрушения»). Во-первых, это читательское наслаждение. Во-вторых, проза Зебальда, на мой взгляд, — явление исключительно важное для современной литературы: Зебальд-художник смог найти язык для разговора со своим временем. Ну а в частности, чтение его прозы освобождает нас от стереотипных представлений о художественной литературе. Ибо что пишет Зебальд? Исторические очерки? Путевую прозу? Литературоведческие исследования? Лирико-исповедальный поток сознания? Он пишет своё проживание современного мира и его культуры, не больше, но и — не меньше.
2. Чтение книг Зебальда завершило для меня мой личный сюжет овладения сегодняшней культурой литературного письма (для меня как читателя, но, увы, не как литератора), который — сюжет — начался — с чтения эссе Паскаля Киньяра «Секс и страх», писателя неровного, но блистательного в романе «Терраса в Риме» и в книге эссе «Ладья Харона»; продолжился чтением эссеистской прозы Анджея Стасюка («Дукля», «По пути в Бабадаг), Тараса Прохасько и Сергея Жадана, как бы завершивших вздох Льва Толстого, сетовавшего в начале ХХ века на усталость и изношенность сюжетной прозы.
3. Пять лет назад, подбирая в «Фаланстере» книги для своей библиографической колонки в «Новом мире», я открыл книгу незнакомого мне автора под названием «Естественная история разрушения», начал читать, увлекся и книгу купил. Книга удивила — великолепная литературоведческая мини-монография «Писатель Альфред Андреш», главный герой которой по ходу чтения начинал восприниматься как почти метафора образа писателя ХХ века в условиях тоталитаризма, и тут же сугубо документальная историческая проза о бомбардировках английской авиацией немецких городов, и ещё два текста, написанных в других совсем жанрах — при чтении этих непохожих друг на друга текстов удивлял не только уровень проработки материала, но и естественность, с которой держался в каждом из них автор. То есть чувствовалось с самого начала, что это нечто больше чем литературоведение, даже очень качественное, или исторический очерк. Ну а через три года вот так же, в «Фаланстере», купил заинтересовавшую меня при беглом просмотре книгу под названием «Головокружения» и, начав читать её, почувствовал странное: текст почему-то казался мне очень знакомым, притом что прочитать его раньше я никак не мог. И только дочитывая очерк про Бейля, я осознал, откуда это чувство: я услышал знакомый, и как выяснилось, поразивший меня три года назад голос рассказчика. Оказалось — к стыду своему признаюсь — что это тот же автор, что и автор «Истории разрушений». Ну и дальше я начал читать все переведённое у нас из Зебальда, и переведённого оказалось достаточно, чтобы оценить масштабы этого литературного явления.
Словосочетание «общезначимое литературное произведение» звучит для меня скорее как оксюморон.
Вадим МУРАТХАНОВ, поэт, прозаик, литературный критик, эссеист, соредактор журнала «Интерпоэзия», член редакционного совета и ведущий рубрики «Литературные страницы» журнала «Восток Свыше»:
МАРИЯ СТЕПАНОВА. «ПАМЯТИ ПАМЯТИ»
1. C иноязычной литературой минувшего десятилетия я знаком в недостаточно полном объёме, поэтому предпочел бы ограничиться книгами, вышедшими на русском.
 Среди них выделю «Памяти памяти» Марии Степановой (М.: Новое издательство, 2019). Те из нас, кто зацепил своим детством доцифровую эпоху с её отрывными календарями и фотоальбомами в сафьяновых переплетах, ощущают себя мостиком, связующим звеном между расползающимися временами. В этом отношении сразу несколько книг, вышедших в начале этого столетия, оказались знаковыми и значимыми. Можно вспомнить, например, «Время second-hand» Светланы Алексиевич, составленное из свидетельств жителей нашей распавшейся страны, или «Вспять» Александра Грищенко, где бережно воссоздается увиденное детскими глазами и уловленное детской памятью прошлое. Но только Степанова в своём «романсе» так пристально и с такой беспощадной рефлексией рассматривает сам механизм запоминания, сам способ выстраивания взаимоотношений с индивидуальным прошлым. По этой книге передвигаешься, как в меду, то и дело увязая в деталях и подменяя описываемое в ней собственными картинками памяти. Её можно отложить и бросить на любом месте — и остаться при этом с устойчивым послевкусием от времени и многообразия его земных отпечатков.
Среди них выделю «Памяти памяти» Марии Степановой (М.: Новое издательство, 2019). Те из нас, кто зацепил своим детством доцифровую эпоху с её отрывными календарями и фотоальбомами в сафьяновых переплетах, ощущают себя мостиком, связующим звеном между расползающимися временами. В этом отношении сразу несколько книг, вышедших в начале этого столетия, оказались знаковыми и значимыми. Можно вспомнить, например, «Время second-hand» Светланы Алексиевич, составленное из свидетельств жителей нашей распавшейся страны, или «Вспять» Александра Грищенко, где бережно воссоздается увиденное детскими глазами и уловленное детской памятью прошлое. Но только Степанова в своём «романсе» так пристально и с такой беспощадной рефлексией рассматривает сам механизм запоминания, сам способ выстраивания взаимоотношений с индивидуальным прошлым. По этой книге передвигаешься, как в меду, то и дело увязая в деталях и подменяя описываемое в ней собственными картинками памяти. Её можно отложить и бросить на любом месте — и остаться при этом с устойчивым послевкусием от времени и многообразия его земных отпечатков.
В личностном смысле эта книга также важна для меня — как сверхплотная концентрация той работы, которую я и сам вёл в поэзии и прозе в последние двадцать лет.
2. Знакомство началось с фонового шума вокруг книги Степановой, чтения рецензий и откликов на неё. А непосредственно к чтению я приступил после того, как мои друзья Санджар и Слава подарили мне на день рожденья сертификат магазина «Фрилансер», который я и обменял вскоре на «Памяти памяти». Не люблю читать большую во всех отношениях литературу с монитора компьютера.
3. Думаю, есть основания считать книгу Степановой общезначимой. История поглощения «аналогового» мира «цифровым» — актуальная и значимая тема для всего человечества, независимо от политических убеждений, эстетических взглядов и вкусов его представителей. Отношения человека с его прошлым и свойства памяти — вещи того же ряда. К тому же сейчас, в предапокалиптической атмосфере, которую внезапно мы все вдохнули, стало очевидно, что время для выяснения наших отношений с историей совсем не безгранично.
Игорь КИРИЕНКОВ, литературный критик, редактор «Bookmate Journal», критик, автор телеграм-канала «I’m Writing a Novel»:
МАРИЯ СТЕПАНОВА. «ПАМЯТИ ПАМЯТИ»
1. Бесконечно трудный вопрос — проваливаешься куда-то пугающе глубоко в себя, пытаясь назвать пять за год, а тут — одна-единственная, определяющая, расколдовывающая очень странный период российской жизни; а может, я вкладываю в предложенное редакцией Textura словосочетание «книга прошедшего десятилетия» что-то совсем не то, и на самом деле заветный текст должен — точнее, ничего он не должен, а просто есть, занимает законное, неотменимое уже место на полке и, главное, в голове.
Исходя из этой логики — книга как артефакт, как очень отдельное и независимое явление, провоцирующее интерпретации и ускользающее от них; как что-то самочинно бытийствующее, — книгой 2010-х стоило бы назвать романс Марии Степановой «Памяти памяти». Не было в этом десятилетии другого автора, который бы набирал высоту от публикации к публикации и воплотился бы в полной мере в такой пограничной — мемуарной? эссеистической? теоретической? — форме. Собственно, её победа на «Большой книге» в 2018-м и упорная борьба в финале «Супер-НОСа» в 2020-м сообщает этому выбору веское институциональное обоснование — ну, если кто-то по-прежнему нуждается в профессионально-критических подпорках.
2. Осенью 2017 года я уволился из «Афиши Daily» и тут же разжился вёрсткой «Памяти памяти» — произведения, которое, по собственным читательским ощущениям, могло во мне что-то перевернуть, как уже случалось, когда я читал тексты Степановой, собранные в книге «Один, не один, не я». Так, в общем, и произошло; впрочем, какая-то складная, долгая мысль по этому поводу родилась во мне только в начале зимы, когда я решил столкнуть «Памяти памяти» с только что опубликованной книгой Эдуарда Лимонова «Седого графа сын побочный» — ещё одним любопытным примером разысканий в области частной истории.
3. Не признаю — хотя мне, сказать по совести, не вовсе симпатична идея радикального демонтажа всех и всяческих культурных иерархий. Не потому, что я слишком уж ценю теперешнюю расстановку сил, а потому, что считаю её подвижной в силу вполне объективных причин; через тридцать лет всё может решительным образом перемениться — и это, в общем, нормально, что литература, до известной степени, изоморфна обществу. Что до культурного перепроизводства, то оно активизирует вполне понятные партизанские стратегии, жажду укромного любования чем-то глубоко личным, и, если честно, я бы не хотел, чтобы мои персональные эстетические обсессии — тот набор авторов и текстов, которые я читаю для себя, — становились предметом общественной дискуссии. Что, впрочем, не мешает мне при всякой удобной возможности заявить об ослепительном даровании Бренера, Левкина, Барсковой, Мещаниновой, Данилкина и ещё пары-тройки писателей и поэтов.
Андрей ТАВРОВ, поэт, философ, эссеист, главный редактор поэтической серии издательства «Русский Гулливер»:
СИМОНА ВЕЙЛЬ. «ТЕТРАДИ»
1. «Тетради» Симоны Вейль (2 части вышло), как и большинство её книг тоже. Это записи философа о важнейших экзистенциальных категориях, увиденных с точки зрения практического христианства, отличного от теоретического и доктринального богословия, причём в контексте античной философии и трагедии в сочетании с мировоззрением дальневосточного дзен-буддизма. Это не пересказ чужих мыслей и не цитирование священных тестов — мысли автора, даже самые отвлечённые это не то чтобы руководство к действию, это и есть начало и следствие действия человека, вера которого стала реальностью, большей, чем так называемая реальность 99% населения, включая интеллектуальные элиты. В этом плане интеллектуалку Симону парадоксальным образом можно сравнить с рабочей на заводе, которая действует для того, чтобы проокормить своих детей, более того, для того, чтобы испытать такой труд на себе, Симона реально работала одно время на фабрике. Сергей Аверинцев в 80-е году прошлого столетия высказал предположение, что 21 век будет веком под знаком Симоны Вейль.
 В личностном смысле «Тетради» это испытание на безупречную честность, без которой все мы продолжаем спать заживо, а в литературном — это, не в последнюю очередь благодаря фрагментарности текста, сборник блестяще сформулированных коанов и провоцирующих положений некрещённой христианки, захотевшей остаться среди «незнающих Христа», дабы не пользоваться духовными привелегиями «крещённых».
В личностном смысле «Тетради» это испытание на безупречную честность, без которой все мы продолжаем спать заживо, а в литературном — это, не в последнюю очередь благодаря фрагментарности текста, сборник блестяще сформулированных коанов и провоцирующих положений некрещённой христианки, захотевшей остаться среди «незнающих Христа», дабы не пользоваться духовными привелегиями «крещённых».
Несколько отходя от правил, назову вторую книгу дестилетия — «Кантос» Эзры Паунда в переводе Андрея Бронникова, первый полный перевод великого произведения великого поэта на русский.
2. О самой Симоне я узнал в свое время из статьи С.С. Аверинцева, предваряющей публикацию работы Симоны Вейль о власти как таковой на примере «Илиады». «Тетради» я увидел случайно, когда зашел в «Фаланстер» в поисках «Хельдерлина» Петера Вайсса. Первую часть я уже видел в своё время в продаже и не купил, но тут, развернув том «Тетрадей» второго выпуска, пережил настолько тонкие и весенне-радостные чувства, что унёс их с собой.
3. Общезначимой книгой, на мой взгляд, является такая книга, где время остановлено. Вневременной фактор в такой книге делает возможным выпадение текста из обусловленности временем, политикой, вкусами и т.д. Т.е. все эти вещи учитываются, но перестают управлять тем, кто способен ввести вневременной фактор в свой текст вживую. Способностью к этому обладают некоторые великие поэты и, все реже, философы. Такая способность была у Симоны Вейль. Такая книга — животворит, хоть читать её приходится прикладывая усилия.
Подобных книг всегда немного. О такой целительной общезначимости, о её терапии говорить, конечно же, стоит в любое время, в любую культурную эпоху.
Анатолий РЯСОВ, прозаик, поэт, эссеист, кандидат политических наук, лауреат премии «Дебют» (2002):
АНТУАН ВОЛОДИН «С МОНАХАМИ-СОЛДАТАМИ»
1. Главный писатель современности — это Антуан Володин. Раз уж требуется назвать одну книгу, то я выбираю самую объёмную из переведенных на русский: «С монахами-солдатами» — том, вышедший в издательстве «Амфора» в 2013 году. Этот сборник включает в себя одноименное произведение, написанное под псевдонимом Лутц Бассман, а также 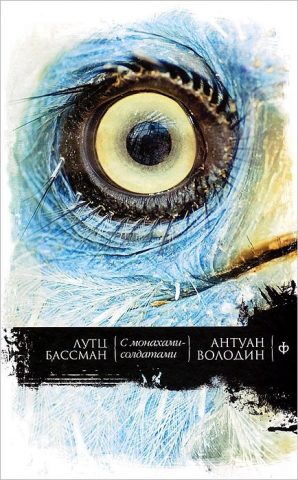 другие тексты Володина. В конце ХХ века перед рядом авторов встала проблема, которую можно обозначить как «письмо после Беккета». Это вопрос, который в силу ряда причин оказался для меня важным. Условно говоря: ситуация, в которой четко зафиксировано завершение модернизма, но все предлагаемые выходы вроде интертекстуальных игр или, наоборот, нового реализма кажутся вздором. И здесь открывается непростая задача: возможно ли, не преуменьшая проблему исчерпанности художественных средств, представить радикальный языковой опыт? Так вот, Володин выстраивает на этих руинах мир, который нельзя спутать ни с одним другим. И, несмотря на то, что все его произведения выглядят как тома бесконечной эпопеи, он каждый раз находит стилистические способы смещать перспективу. Это продвижение, предполагающее перестановку акцентов во вроде бы досконально изученном пространстве, раз за разом открывающемся как абсолютно незнакомое.
другие тексты Володина. В конце ХХ века перед рядом авторов встала проблема, которую можно обозначить как «письмо после Беккета». Это вопрос, который в силу ряда причин оказался для меня важным. Условно говоря: ситуация, в которой четко зафиксировано завершение модернизма, но все предлагаемые выходы вроде интертекстуальных игр или, наоборот, нового реализма кажутся вздором. И здесь открывается непростая задача: возможно ли, не преуменьшая проблему исчерпанности художественных средств, представить радикальный языковой опыт? Так вот, Володин выстраивает на этих руинах мир, который нельзя спутать ни с одним другим. И, несмотря на то, что все его произведения выглядят как тома бесконечной эпопеи, он каждый раз находит стилистические способы смещать перспективу. Это продвижение, предполагающее перестановку акцентов во вроде бы досконально изученном пространстве, раз за разом открывающемся как абсолютно незнакомое.
2. Я стараюсь следить за переводами Виктора Лапицкого и Валерия Кислова, а здесь речь об авторе с русскими корнями, чьи произведения издавались любимыми мной французскими издательствами. Поэтому я сразу заинтересовался его текстами. А начав читать, сразу осознал, что не ограничусь одной-двумя книгами, потому что такой решимости героев продвигаться вперёд в условиях абсолютного краха я не встречал ни у кого со временен Андрея Платонова. Все книги Володина как бы указывают друг на друга, поэтому не так-то просто назвать наиболее «автономную» из них. Может быть, больше других на это звание мог бы претендовать многостраничный и ошеломительный эпос «Лучезарный тупик» («Terminus radieux»), пока не переведённый на русский.
3. Меня мало интересуют так называемые общезначимые события, потому что чаще всего они связаны с именами тех, кого Ницше называл «создателями нового шума». Что-то существенное в литературе может касаться только вопросов стиля, а как раз они редко интересуют тех, кто бьётся за общезначимость. Поэтому если какая-то аргументация и может быть состоятельной здесь, то это мотивы, касающиеся способа высказывания. К примеру, имя Владимира Казакова до сих пор совершенно незнакомо театралам, а это не просто интереснейший поэт, прозаик и драматург, но автор, переоткрывший драму как ресурс письма. В этом смысле и то, что я говорю о Платонове и Беккете, касается прежде всего вопросов стиля.
Кирилл АНКУДИНОВ, литературный критик, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы и журналистики Адыгейского государственного университета:
ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. «ЛЁГКАЯ ГОЛОВА»
1. Вначале выявлю границы определения «книги десятилетия». При всей моей любви к лучшим современным книгам поэзии и нон-фикшна, называть их «книгами десятилетия» — чрезмерное эстетство. Нынешнюю переводную литературу я знаю недостаточно хорошо, и, как мне думается, в прошедшее десятилетие не было книги уровня «Имени розы». Остаётся отечественная проза — и притом проза с социальным звучанием.
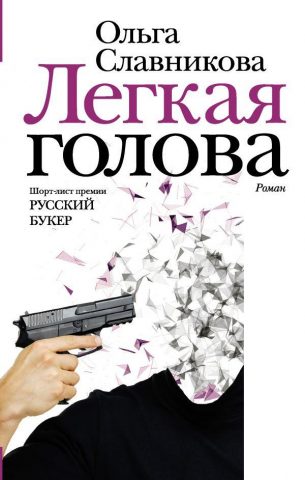 Под определение «проза 2010-2020 гг.» подпадает роман Ольги Славниковой «Лёгкая голова». Он был опубликован в журнале 2010-м году и издан книгой в 2011-м году. Очень важная книга, особенно для нынешних дней. Книга, поднимающая проблему взаимоотношения личности и социума, более того, проблему выживания личности, осознающей себя как личность в современном антиличностном социуме. Несмотря на трагический финал, эта книга даёт надежду; но она не даёт политиканско-идеологические обманки (многие писатели за это десятилетие превратились в политиканов разных цветов). А написана она прекрасно — как всегда у Ольги Славниковой.
Под определение «проза 2010-2020 гг.» подпадает роман Ольги Славниковой «Лёгкая голова». Он был опубликован в журнале 2010-м году и издан книгой в 2011-м году. Очень важная книга, особенно для нынешних дней. Книга, поднимающая проблему взаимоотношения личности и социума, более того, проблему выживания личности, осознающей себя как личность в современном антиличностном социуме. Несмотря на трагический финал, эта книга даёт надежду; но она не даёт политиканско-идеологические обманки (многие писатели за это десятилетие превратились в политиканов разных цветов). А написана она прекрасно — как всегда у Ольги Славниковой.
Назову ещё две книги, на год-два опоздавшие к «нижней границе десятилетия». Это «Кома» Эргали Гера (2009) и, конечно же, «Асан» Владимира Маканина (2008). «Асан» для меня — «книга двадцатилетия» (а то и «книга тридцатилетия»).
2. Никаких сложностей. Прочитал в литературном журнале. И «Лёгкая голова», и «Кома», и «Асан» — публиковались в «Знамени».
3. Понятие «общезначимость» я признаю. Кризис культурного перепроизводства действительно имеет место. Он не уничтожает общезначимость культурных явлений, но меняет её.
Называя три значимые книги, я понимаю, что лукавлю. «Кому» не заметили, «Асан» получил в основном негативные отклики, «Лёгкую голову» немного хвалили — и только. Эти книги значимы для меня. От моих любимых поэтических сборников они отличаются только тем, что поэтические сборники не могут стать общезначимыми ни при какой погоде, а эти книги прозы тоже не могут стать общезначимыми, но я типа надеюсь.
Культурное перепроизводство приводит к тому, что ныне общезначимой не может стать социально и психологически точная книга. Если б в наши дни жил бы Чехов, его книги вызывали бы сочувственное равнодушие. Тем более не может стать сейчас общезначимой книга, выдержанная в наилучшем вкусе. Вообще, начиная с ХХ века, общезначимыми становятся книги не лучшего вкуса; поэтому общезначимость книги — явление раздражающее. Почему «Мастер и Маргарита», почему «Москва-Петушки», почему «Доктор Живаго», чёрт возьми?! Почему Высоцкий и почему Асадов?
Общезначимость книги не может быть выявлена и синтезирована для коммерческих целей: литературные бизнесмены используют то, что уже получило интерес, они не могут сделать книгу «под будущий интерес». Значимо то, что прикасается к неким «точкам» в социуме, притом к «точкам», слабо поддающимся рациональному осмыслению и очень глубоким. Настолько глубоким, что они могут нами не просматриваться.
У меня есть подозрение: в новейшее (постсоветское) время механизмы значимости литературных явлений ушли очень глубоко — в пласты коллективного мифологического сознания. Что в девяностые годы было более значимо — какая угодно «боллитра» каких угодно мэтров или всё же «Звенящие кедры России» с Пелевиным, который только притворялся «боллитристом», а сам (тогда) был гуру вроде Порфирия Иванова? А если заглянуть в нынешние глубины коллективного мифологического сознания?
Кирилл КОБРИН, литератор, историк, редактор журнала «Неприкосновенный Запас»:
МАТИАС ЭНАР. «КОМПАС»
1. Это «Компас» француза Матиаса Энара. Дело в том, что я — по своей воле — почти не читаю современную беллетристику; она мне кажется совершенно ненужной, за небольшим исключением детективов, кое-каких других жанровых вещей и редких случаев, когда фикшн становится способом настоящей рефлексии. Скажем, я обожаю романы британской детективщицы P.D. James, но все же ее сложновато назвать «современной» — Джеймс умерла несколько лет назад в 94-летнем возрасте. P.D. James не просто сочиняла истории про убийства и не только придумала совершенно особого сыщика (офицер полиции — и модернистский поэт, типа Филиппа Ларкина или кого-то в этом роде), что в этом жанре абсолютно необходимо. Она — учитывая её многолетний жизненный опыт в качестве администратора больниц и на подобных должностях — настолько тонко и глубоко знала жизнь британского среднего класса, особенно его самой многочисленной группы, врачей, чиновников, офисных работников, секретарш и т.д., что другим беллетристам совершенно ненужно уже было сочинять тысячи других «реалистических психологических романов» о тех же людях. И проза её была как раз рефлексивна — не просто описание, а именно самоанализ целой социальной группы. Да, но это Джеймс, она осталась в прошлом мире. Сегодня, когда есть сотни превосходных эссеистов, очеркистов, умных (да-да, умных!) блестящих журналистов, данная функция прозы как бы и вовсе не нужна. Есть ещё функция развлечения — но с этим кино, сериалы, соцсети и всё такое справляются гораздо лучше. В общем, непонятно, зачем нужен фикшн, непонятно.
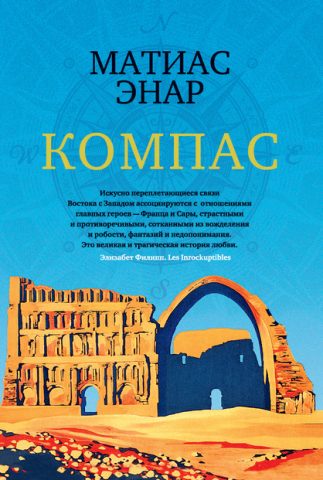 Но в крайне редких случаях художественная проза оказывается важнее и интереснее почти всего, написанного на ту или иную тему. Наверное, это тогда, когда роман или повесть или рассказы задают своего рода рамочку и повестку для рефлексии. Ну, к примеру, нет более надоевшей и избитой темы, нежели «Запад versus Восток». Сколько всего понаписано, сколько избитых истин, банальностей, вялых и глупых провокаций, сколько понтов и пижонства, в конце концов. Казалось, ничего уже об этом не скажешь, никакую планку разговора не задашь, ничего сюда не подключишь — как ни крутись, а всё равно окажешься под ручку с дядюшкой Эдвардом Саидом. Но вот французский ориенталист, даже в каком-то смысле не совсем профессиональный беллетрист Матиас Энар взял и сделал книгу, в которой внимательный читатель проживает трансформацию европейского культурного сознания в ближневосточное — и обратно. Да, на первый взгляд, роман перегружен культурными деталями — особенно много там композиторов и всякой музыки вообще — но лично мне наплевать на пуристов, которые все хотят прозы попроще, потупее, поэнергичнее и поэкзистенциальнее, наверное, чтобы на таком фоне им самим выглядеть изысканными и умными. Да, в «Компасе» поминаются сотни всяких имен и исторических событий — но такому изобилию радуешься, собственно, это счастье, когда в мире много музыки, много стихов, много всего другого хорошего — еды, напитков, секса, архитектуры. И притом книга грустная, конечно — речь ведь в ней идет об (относительно) несчастной любви — ориенталиста к ориенталистке, одной культуры к другой. Но сам процесс влюбленности, страсти, страдания — он составляет напряжение и содержание жизни: людей, культур, обществ, книги под названием «Компас». Ну и, конечно, важнейшая мысль этой книги Энара, в пику Саиду, конечно: так называемые «Восток» и «Запад» есть проявления одного и того же способа мышления и жизни; точно так же, как «Запад» — следуя концепции Саида, сформулировал «Восток» в 19—20 веках, до того, когда-то в Средние века «Восток» (арабы, турки сельджуки и османы) во многом сформировал «Запад».
Но в крайне редких случаях художественная проза оказывается важнее и интереснее почти всего, написанного на ту или иную тему. Наверное, это тогда, когда роман или повесть или рассказы задают своего рода рамочку и повестку для рефлексии. Ну, к примеру, нет более надоевшей и избитой темы, нежели «Запад versus Восток». Сколько всего понаписано, сколько избитых истин, банальностей, вялых и глупых провокаций, сколько понтов и пижонства, в конце концов. Казалось, ничего уже об этом не скажешь, никакую планку разговора не задашь, ничего сюда не подключишь — как ни крутись, а всё равно окажешься под ручку с дядюшкой Эдвардом Саидом. Но вот французский ориенталист, даже в каком-то смысле не совсем профессиональный беллетрист Матиас Энар взял и сделал книгу, в которой внимательный читатель проживает трансформацию европейского культурного сознания в ближневосточное — и обратно. Да, на первый взгляд, роман перегружен культурными деталями — особенно много там композиторов и всякой музыки вообще — но лично мне наплевать на пуристов, которые все хотят прозы попроще, потупее, поэнергичнее и поэкзистенциальнее, наверное, чтобы на таком фоне им самим выглядеть изысканными и умными. Да, в «Компасе» поминаются сотни всяких имен и исторических событий — но такому изобилию радуешься, собственно, это счастье, когда в мире много музыки, много стихов, много всего другого хорошего — еды, напитков, секса, архитектуры. И притом книга грустная, конечно — речь ведь в ней идет об (относительно) несчастной любви — ориенталиста к ориенталистке, одной культуры к другой. Но сам процесс влюбленности, страсти, страдания — он составляет напряжение и содержание жизни: людей, культур, обществ, книги под названием «Компас». Ну и, конечно, важнейшая мысль этой книги Энара, в пику Саиду, конечно: так называемые «Восток» и «Запад» есть проявления одного и того же способа мышления и жизни; точно так же, как «Запад» — следуя концепции Саида, сформулировал «Восток» в 19—20 веках, до того, когда-то в Средние века «Восток» (арабы, турки сельджуки и османы) во многом сформировал «Запад».
Наконец, это душераздирающее чтение — немалая часть действия романа происходит в Сирии, буквально за несколько лет перед тем, как местные кровопийцы рука об руку с циничными убийцами из других заинтересованных стран, не уничтожили эту прекрасную страну.
«Компас» стоит читать особенно сейчас, во время нашего вирусного домашнего ареста: мы ноем, посидев в наших относительно комфортных квартирах взаперти несколько недель, нам плохо, мы боимся и жалуемся. А когда сотни тысяч людей бегут от (отчасти спровоцированных нашими же правительствами) страданий и смерти к нам сюда, в Европу, а мы, вместо того, чтобы помочь несчастным, спасти их, начинаем бормотать им в лицо бред о «чужих культурах, которые мы к себе не допустим», тут мы храбрые и на коне. Какой стыд и какая низость.
2. История простая. Я обожаю независимое британское издательство Fitzcarraldo Editions, стараюсь просматривать их новинки. Увидел на их сайте пухлый — и безупречно, как обычно у Fitzcarraldo, изданный — английский перевод «Компаса». Автора не знал, толстый роман читать не хотел. Но как-то, зайдя в лондонский магазин Foyles, наткнулся на книгу и принялся листать, не смог оторваться, купил. В этот момент я уезжал на год в Китай, взял роман с собой. Так и прочел его, валяясь на дерматиновом черном китайском диване в съемной китайской квартире в китайском доме для преподавателей одного китайского университета. Вот и всё. Сейчас книга вышла на русском, так что ура.
3. Конечно, нет, не признаю. Есть книги, в которых интересно думают — или о которых интересно думать. Но лично мне, конечно; я не в ответе за других.
Александр МАРКОВ, доктор филологических наук, профессор (РГГУ, кафедра кино и современного искусства), философ, историк и теоретик культуры и искусства, литературный критик:
АЛЕКСАНДР ИЛЬЯНЕН. «ПЕНСИЯ»
1. Александр Ильянен. «Пенсия». Тверь: Kolonna Publ., 2015. В личностном смысле эта книга так же важна, как в предшествующем десятилетии — книга разговоров Бибихина с Лосевым и Аверинцевым — отсутствием эмоциональных анахронизмов. Например, Лосев в беседах с другими часто возвращался к дореволюционным спорам и контекстам, а у Бибихина он вполне человек, который мог бы общаться с Альтюссером или Гомбрихом. Так же и Ильянен, он тот, который смог бы общаться с любым из сорока академиков французской академии бессмертных, сам преподаватель французского, современен во всем, в нем ничего уже не осталось от эпигонского «интеллигентства», от надрыва и вздохов. 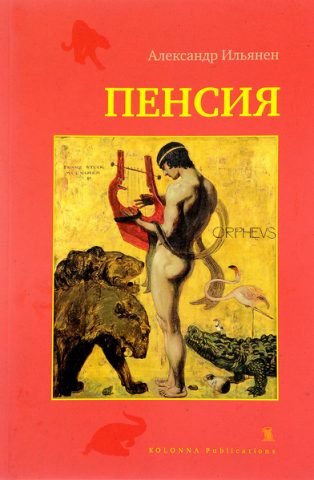 Но при этом Ильянен именно что умеет, как и бибихинские Лосев и Аверинцев, быть чуток сразу к нескольким контекстам: к современной литературе, к изменению города в эпоху сети, к новым социальным противоречиям, к перемене в языке кинематографа, к появлению новой экранной чувствительности. Лучше всего одновременно с чтением этой книги, подтянутой и иногда просто «военной», книги петербургских рот, смотреть как рамку женское кино Лилианы Кавани, Софии Копполы и Лу Жене, чтобы понимать, что происходило с чувственностью в разные десятилетия. Так что лично для меня это был роман воспитания, точнее перевоспитания, расставания с амбициями и неуместностью — и встречи с большими контекстами современного мира. Казалось бы, «Пенсия» — ювелирная работа романиста-блогера, в ореоле дружелюбивых реплик, но на самом деле это работа по поддержанию речевой инфраструктуры современного мира, не менее сложная, чем поддержание электроснабжения или водоснабжения города.
Но при этом Ильянен именно что умеет, как и бибихинские Лосев и Аверинцев, быть чуток сразу к нескольким контекстам: к современной литературе, к изменению города в эпоху сети, к новым социальным противоречиям, к перемене в языке кинематографа, к появлению новой экранной чувствительности. Лучше всего одновременно с чтением этой книги, подтянутой и иногда просто «военной», книги петербургских рот, смотреть как рамку женское кино Лилианы Кавани, Софии Копполы и Лу Жене, чтобы понимать, что происходило с чувственностью в разные десятилетия. Так что лично для меня это был роман воспитания, точнее перевоспитания, расставания с амбициями и неуместностью — и встречи с большими контекстами современного мира. Казалось бы, «Пенсия» — ювелирная работа романиста-блогера, в ореоле дружелюбивых реплик, но на самом деле это работа по поддержанию речевой инфраструктуры современного мира, не менее сложная, чем поддержание электроснабжения или водоснабжения города.
2. Я купил книгу на нон-фикшн, она у меня по дороге вывалилась из рюкзака, поэтому пришлось искать новый экземпляр. Кажется, это единственный раз в жизни, когда я потерял книгу. Читал я, разумеется, и вариант ВКонтакте, хотя не полностью.
3. Общезначимости в значении для всей читающей публики не бывает, потому что это слово имело смысл, когда сама читающая публика была выделенной из массы населения — например, семинарист, читающий Некрасова и Добролюбова, житель местечка, еле знающий русский, но держащий Надсона рядом с Талмудом, питомец реального училища, разучивающий Блока, рабочий с самокруткой, поглощающий Есенина, — это всё читатели вроде бы не из ядра читающей публики, не собиратели книг, но при этом они читатели — те, кто предпочитали слушать чтение стихов с эстрады или прочитывать их в альбомах, обращались с текстом по-другому. Чтение здесь по сути дела — причастность чему-то большому, каким-то душевным переживаниям, которым целого мира мало; и конечно, тогда такая поэзия становится общезначимой, даже если её читают невнимательно и запоминают отдельные пронзительные строки. А сейчас, конечно, такую причастность образуют сами новые медиа. Книга может быть в наши дни общезначимой только в другом смысле — как очень современная. Это, быть может, книга даже не особо читаемая, но которая неотменима — как про актера говорили «эпоха», хотя его игру мало кто видел, так про такую книгу можно сказать, что это уже эпоха, даже если ее еще не особо читают. Такой книгой может стать неожиданно, например, «Война и мир» — во время самоизоляции некоторые стали ее перечитывать и по-новому открыли её современность, не только в смысле «уроков», но и в смысле «как говорить о неожиданном». Мы все, я думаю, хотя бы одним стихотворением и эссе, или хотя бы одним удачным выражением (которое меньше всего похоже на «мем», механически воспроизводимый, «мемами» мы уже сыты), приблизились к общезначимости. Например, как общезначимую книгу я делал в своё время свою творческую версию «Метафизики» Аристотеля, и хотя многие антиковеды её не приняли, она хоть в чем-то общезначима как разговор XXΙ века, ещё один разговор.
Ольга БАЛЛА-ГЕРТМАН, литературный критик, эссеист, редактор журналов «Знание — Сила» и «Знамя»:
МИХАИЛ ЭПШТЕЙН. «ПРОЕКТИВНЫЙ СЛОВАРЬ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК»
1. После долгой, сложной и упорной борьбы за звание на книгу десятилетия — а на него было много претендентов — победила в конце концов книга Михаила Эпштейна «Проективный словарь гуманитарных наук», вышедшая в «Новом литературном обозрении» в 2017 году. (С ней всерьёз соперничала, например, большая книга интервью Ольги Седаковой «Вещество человечности»… но тссс: сказано — об одной книге, значит, об одной. — Впрочем, собственный топ-лист книг десятилетия надо будет тоже составить).
 Эпштейновский словарь может претендовать на роль книги книг совершенно уверенно, потому что — и это уже сразу о её значимости в литературном, в культурном смысле — (а) объемлет всю сферу гуманитарной мысли (а также гуманитарного чувства, гуманитарного воображения и гуманитарных практик) в целом, включая те её стороны, что имеют возникнуть в будущем, те, что имеют шанс возникнуть, и те, что не возникнут никогда; (б) систематизирует не столько существующее и ставшее (хотя и его тоже), но возможное, становящееся; не только нащупывает точки предполагаемого роста, но и — что совсем редко, кажется, кроме Эпштейна, такого никто не делает — рассматривает, как эти точки устроены. Пожалуй, это было одним из самых захватывающих моих чтений минувшего десятилетия — а может быть, и самым.
Эпштейновский словарь может претендовать на роль книги книг совершенно уверенно, потому что — и это уже сразу о её значимости в литературном, в культурном смысле — (а) объемлет всю сферу гуманитарной мысли (а также гуманитарного чувства, гуманитарного воображения и гуманитарных практик) в целом, включая те её стороны, что имеют возникнуть в будущем, те, что имеют шанс возникнуть, и те, что не возникнут никогда; (б) систематизирует не столько существующее и ставшее (хотя и его тоже), но возможное, становящееся; не только нащупывает точки предполагаемого роста, но и — что совсем редко, кажется, кроме Эпштейна, такого никто не делает — рассматривает, как эти точки устроены. Пожалуй, это было одним из самых захватывающих моих чтений минувшего десятилетия — а может быть, и самым.
И тут уже о личной значимости: эта книга мила мне едва ли не прежде прочего эстетически, стилистически (мне вообще очень нравится стиль мышления Эпштейна): она осуществлена одновременно в области логики и в области воображения; она одновременно серьёзна и точна — и играет с миром (демонстрируя тем самым, что эти мнимые противоположности нисколько не противоположны друг другу). Чтение этого словаря одновременно будоражит ум и приводит его в порядок (чаще всего на такое способна поэзия. Скажу ничуть не парадоксальное: эта книга работает как хорошая поэзия — и даже, может быть, представляет собою её разновидность. Кстати, подобно поэзии, эту книгу можно и нужно перечитывать — причём с любого места, этим словари вообще хороши). Я её чувствую в себе встроенным оптическим прибором.
И тут снова о культурном смысле: поскольку я точно не представляю собой ничего уникального, верю, что плодотворное, тонизирующее, стимулирующее, упорядочивающее и растящее воздействие этот текст текстов оказывает не только на меня.
2. История моего знакомства с нею проста: поскольку я вообще стараюсь читать и продумывать всё, что пишет Эпштейн, я купила её в «Фаланстере» и немедленно, уже на ходу, идя к метро по Тверской, начала читать (и да, разумеется, тут же проехала свою остановку в метро, зачитавшись). Теперь она живёт у моего письменного стола на стеллаже за спиной, где обитают книги либо те, что вовлечены в текущую работу, либо те, к которым всё время обращаешься.
3. Я совсем не верю в «общезначимость». Даже Библия и Гомер (например; первое «общезначимое», что пришло в голову) не могут, увы, ею похвастаться, поскольку есть и культуры, и отдельные люди, сердцу и уму которых они не говорят ничего. Я скорее говорила бы о значимости — любых текстов — для ограниченных групп, причём эти группы могут быть как сколь угодно большого (но никогда не совпадающего со всем человечеством), так и сколь угодно малого размера (в этом последнем случае человек может не совпадать даже с самим собой).
Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ, поэт, главный редактор журнала «Новый мир»:
ДМИТРИЙ ДАНИЛОВ. «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА»
1. Сначала я немного поругаюсь. Что-то в этом вопросе не так. Даже не что-то, а всё не так. Искомая «книга десятилетия» не может быть одна. (Разве что у совсем малочитающего человека. Как в анекдоте: «книга у него уже есть».)
Недавно члены жюри и эксперты премии «НОС» в Нью-Йорке выбирали лучшую книгу. Из лауреатов премии 2009 — 2019 годов (тоже фактически книгу десятилетия). Выбрали «Метель» Сорокина. Но выбирали-то из очень ограниченного списка (11 позиций), раздвинуть который не могли.
Участникам же нынешнего опроса предлагается выбрать только одну книгу. Но из списка практически безбрежного и непонятно по какому критерию (фактически: а по какому хочешь). Что превращает это дело в абсурд.
Должен ли респондент ориентироваться на «прозвучавшие» книги? Тогда можно опираться на объективные, измеряемые данные. Тиражи, продажи, премии, рецензии, дискуссии. Или это книга, важная «для меня», а если вы ее не читали (о ней не слышали), тем хуже для вас?
В результате, когда все захотевшие ответить ответят, мы будем иметь дело не с «экспертными оценками», а непонятно с чем. Обмен читательскими впечатлениями.
Кроме того я не «независимый» эксперт и не «свободный» читатель, а редактор, очень даже зависимый от своего журнального дела. Попробуй тут назвать только одну книгу из худлита (прозу или поэзию), обид не оберЁшься.
Я от этого абсурда не отстраняюсь, мы и не такое видали.
Но трудно, трудно. Попробую сузить список. Вот, допустим, выберу я нонфикшн. Из нонфикшна — биографии. Из биографий — те, что вышли в серии «Жизнь замечательных людей». Из авторов «ЖЗЛ» — допустим, Валерия Шубинского. Но какую назвать? «Азеф» или «Гапон»? Не могу выбрать. А может, вообще — «Бенкедорф» Дмитрия Олейникова? Нет, не могу выбрать.
Ладно, ладно. Волевым решением называю пьесу Дмитрия Данилова «Человек из Подольска».
2. Дмитрий Данилов вдруг написал пьесу и мы сразу её — с восторгом — напечатали («Новый мир», 2017, № 2).
Важно, что это не полуфабрикат для театра. Пьеса очень читабельна, это литературное произведение. Поставить же ее можно самыми разными способами. Как Беккета. Как антрепризный фарс — для ржачки. Можно — «по Станиславскому». И так далее. Уже ставят. И она — случайно или не случайно — попала в нерв нашей общей современности.
3. Конечно, говорить об «общезначимости» не имеет смысла. Невозможен писатель для всех и книга для всех. Сегодня уж точно. Потому что пресловутые «все» — это фикция. Общезначимость — общая значимость — значимость для всех. Но что я знаю про этих «всех»? Я и про себя-то мало знаю.
Продолжение следует…
Спасибо за то, что читаете Текстуру! Приглашаем вас подписаться на нашу рассылку. Новые публикации, свежие новости, приглашения на мероприятия (в том числе закрытые), а также кое-что, о чем мы не говорим широкой публике, — только в рассылке портала Textura!




