Светлана Михеева родилась, живёт, работает в Иркутске. Заочно окончила Литературный институт им. Горького. Автор поэтических книг «Происхождение зеркала» (Иркутск, 2009 г.), «Отблески на холме» (М., «Воймега», 2014 г.), «Яблоко-тишина» (М., «Воймега», 2015 г.), «На зимние квартиры» (М., Водолей, 2018), книги эссеистики «Стеклянная звезда» (М.: «ЛитГост», 2018), нескольких книг прозы. Публикации: «Textura», «Дружба народов», «Октябрь», «Интерпоэзия», «Волга», «Сибирские огни», «Грани», «Журнал поэтов», «Литературная газета», «Юность», «День и ночь» (Красноярск), «Иркутское время» (Иркутск), «Лиterraтура» и др. Руководит Иркутским региональным представительством Союза российских писателей.
Вне оправданий: роман об искусстве
(О книге: Борис Хазанов. «Оправдание литературы» — Москва, Б.С.Г.-Пресс, 2018)
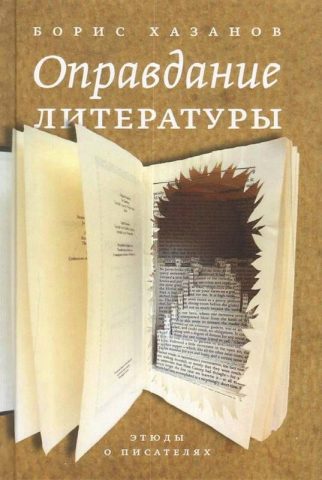 Более или менее современная литература русской эмиграции находится для нас под смутной пеленой, проступая то отдельными именами, то отдельными книгами. Первая волна эмиграции избежала отделения, искупив его трагедией изгнания: уезжай или погибни. И, кажется, пассажиры «философского парохода» так и не сошли на берег, навсегда остались на его палубах, кто «сохраняя заветы», кто осознавая драму эмиграции, кто приобретая опыт освоения чужого духовного, языкового пространства. «Белая эмиграция» стала культурным мифом. Вторая волна, состоявшая во многом из «перемещённых лиц», попавших из огня да в полымя, монолитной литературы не дала, хотя были значительные переводчики вроде Ивана Елагина и крупные переводы вроде его «Тела Джона Брауна». Возможно, оттого, что трагедия мировой войны была всеобщей, на её фоне несколько блекли даже фонари на советских лагерных вышках. «Мы выросли в годы таких потрясений, / Что целые страны сметало с пути…», — писал Елагин. Здесь требовалось мировое осмысление, эпический взгляд всепланетного масштаба. Мы мало знаем об этой волне и ещё меньше — о писателях, которых она захлестнула.
Более или менее современная литература русской эмиграции находится для нас под смутной пеленой, проступая то отдельными именами, то отдельными книгами. Первая волна эмиграции избежала отделения, искупив его трагедией изгнания: уезжай или погибни. И, кажется, пассажиры «философского парохода» так и не сошли на берег, навсегда остались на его палубах, кто «сохраняя заветы», кто осознавая драму эмиграции, кто приобретая опыт освоения чужого духовного, языкового пространства. «Белая эмиграция» стала культурным мифом. Вторая волна, состоявшая во многом из «перемещённых лиц», попавших из огня да в полымя, монолитной литературы не дала, хотя были значительные переводчики вроде Ивана Елагина и крупные переводы вроде его «Тела Джона Брауна». Возможно, оттого, что трагедия мировой войны была всеобщей, на её фоне несколько блекли даже фонари на советских лагерных вышках. «Мы выросли в годы таких потрясений, / Что целые страны сметало с пути…», — писал Елагин. Здесь требовалось мировое осмысление, эпический взгляд всепланетного масштаба. Мы мало знаем об этой волне и ещё меньше — о писателях, которых она захлестнула.
Третья волна — разочарованные шестидесятники, побитые жизнью интеллектуалы — была мощной и сложной. На Западе её тепло приняли по причинам политическим. Третья волна осмысливала глобальный сдвиг 1917-го, советские террор и несвободу — но осмысливала (и это во многом — определяюще) с позиций уже свободного и дружественно принятого другими человека. Представители этой волны были настроены на лучшую долю, сознательно отвергнув жизнь, полную несвободы. Борис Хазанов — представитель третьей волны, уехавший поздно, в 1982 году, пройдя советские лагеря и укрепившись во мнении, что «вообще лагерь представляет собой аномалию, которая стала нормальным образом жизни в Советском Союзе» (цитата из интервью). Постсоветская перспектива не вызывает у него особой симпатии: «советское» так и не отпустило Россию, «и нужно хотя бы, чтобы вымерло все поколение». И да, для него она всегда — «та Россия»: «Для меня другой нет». Он честно сообщал в интервью, что годы, проведённые за границей, отдалили его от России и он смотрит на неё сквозь подзорную трубу. И для многих русских, живущих за границей, а также и для россиян главной его книгой остаётся «Миф Россия», написанная в жанре «романтической политологии». Впрочем, так и мы привыкли смотреть на литераторов эмиграции — через подзорную трубу политики.
Однако и помимо тезисов «романтической политологии» Хазанову есть о чём заявить.
И это, на мой взгляд, даже не романы, о которых положительно высказывались переводчик Юрий Колкер, критик Лев Оборин и другие. Это его размышления о литературе, о писателях, о связи времён, об искусстве без границ. Именно в его эссе, написанных по нынешним временам чрезвычайно рафинированно, стильно, веет дух искусства и существует независимое крупное высказывание о человеке и его действительном назначении. Что толку предупреждать, напоминая о том или другом событии, — человечество всё равно без конца повторяется в своих трагических ошибках. А вот напоминать о том, что человек не винтик события, а сам является настоящим Событием, единственно стоящее дело. А искусство — «жизнь подлинная», которая позволяет этому Событию проявиться.
Честность, которая присуща Хазанову во всём — в интервью, в романах, в книге эссе, — выступает в своей превосходной степени, поскольку идёт рука об руку с пристрастным, очень личным размышлением о «высоком» — о литературе как о призыве к человечности. Гуманистические свойства и функции оправдывают её всецело — именно об этом Хазанов говорит в первом эссе, герой которого — он сам, живущий в «эпоху величайшего умаления человечности». Об этом заявлено и в названии: «Оправдание литературы».
Необходимость в оправдании искусства, литературы, замечали, конечно, и другие и до него, и параллельно ему. Например, один из вариантов названия книги Юрия Лотмана, которая в издательском варианте носит название «Непредсказуемые механизмы культуры», был таким: «Оправдание искусства». Отчего искусству нужно оправдание? Оттого, что в массовом обществе, готовом лишь к подвигам потребления, оно кажется девальвированным, обесцененным — ни к чему не нужным, деятельностью без пользы. Лотман описывает тайные механизмы, скрытые от глаз обывателя. Хазанов рассуждает с позиции читателя (именно читателя, а не писателя — внимательного читателя высочайшей квалификации), заглядываясь на башню из слоновой кости, на которой висит табличка «Сдаётся в наём»: «Тысячу раз осмеянная башня стала не чем иным, как одиноким прибежищем человечности». И уже само название книги в свете прочитанного представляется манифестом, созревшим в результате огромного опыта, жизненного, читательского, литературного. «Тот, кто хорошо пишет, отстаивает честь нашего языка, другими словами, отстаивает достоинство человека». Можно сколько угодно спорить с Хазановым-«романтическим политологом». Можно дискутировать с Хазановым-писателем. Но с Хазановым-читателем не согласиться невозможно: мера, качество и потребность свободы заключены в языке. А точнее, в смыслах, которые язык продуцирует в литературе, как на особой территории бесконечной свободы, ограниченной лишь правилами искусства.
Манифест — речь, произнесённая им в Мюнхенском литературном кружке, — дополнена ревизией — автор осматривает эмигрантскую наличность: истерики дневников, невроз эмигрантских исповедей, плоды столкновения культур. Эмиграция живёт памятью и в своём «единственном неистребимом отечестве» — в языке. Всё, что протоколирует он в эссе «Ветер изгнания», касается не столько перемены действительности, сколько всевластия языка. Он — и время и география, сам — почва. На этой почве художник может вырастить всё, что угодно, ограничиваясь лишь собственным пониманием свободы.
Взаимодействию языков и представлений о других («Мы живём в мире рядом с другими и вместе с другими») посвящены его эссе о Германии и русских писателях, о представлениях русской просвещённой общественности о Германии — романтические пейзажи, романтическая литература, порыв невероятного своеволия, которые вскоре преобразуются в кошмар. На самом деле Германия русскими до сих пор не открыта, она сон, миф, уверен Хазанов. Немецкие литераторы, в основном, герои его эссе. Кроме того — французы, Борхес. Все они — действующие лица в одной пьесе, которую условно назовём «Литературой».
В ней — а также и в «Оправдании литературы» — есть особо острые болезненные для Хазанова точки. Главная — судьба и будущее романа, который «умирал много раз», но так и не умер, упорно вызываемый к жизни сочинителями. «Всякая история есть всего лишь осуществившийся вариант» — а коли так, то могут быть и другие варианты, вызванные к жизни при помощи искусства в ситуации, когда у человека остались «лишь обломки веры в человеческий разум». В поддержку романа — история любви Гёте к Кристиане Вульпиус, зарисовка о Флобере и его столе-алтаре, размышление о методе Достоевского в «Бесах» (по Хазанову — в романе-версии «Бесы») и о его личном провале как мечтателя и «консервативного революционера». В оправдание романного жанра — фигура Томаса Манна, ставшего героем «романа», созданного обществом. Литература о романисте превосходит объём им созданного, дневники Манна, которые достали из швейцарского банка в конце семидесятых, раскрывают подлинную историю его внутренней жизни, его желаний, биография его «преображается со временем»: «Литература противостоит истории. Литература дискредитирует историю», — говорит Хазанов в «Реквиеме по ненаписанному роману», роману вообще, который, как и всё прочее искусство, существует лишь ради свободы.
Этот ненаписанный роман отсылает нас австрийцу Музилю, вступившему в схватку с «романом-Минотавром» «Человек без свойств»: «Просчёт состоял в переоценке теории. Она не выдержала нагрузки…», — цитирует запись Музиля эссеист. «Попытка достичь экстаза, не покидая царства разума», — определяет Хазанов «грандиозный опыт» Музиля, фиксируя его не только как очевидную неудачу («Роман, как блуждающая река, затерялся в песках»), но и как «грандиозный прорыв», который заключается в том, что автор становится частью романного пространства и сам роман диктует ему условие. Это, по Хазанову, значит только одно: победило искусство.
Этот ненаписанный роман отсылает нас к Бруно Шульцу, волшебнику, превращающему захолустье родного Дрогобыча в универсум. Совершенно неважно, что известное наследие Шульца не включает в себя произведений романного жанра (биографы упоминают его утерянный роман «Мессия», над которым он начал работу в 1939 году). Шульц заострён на идее очищении времени от профанного и на исследовании частных механизмов, поворачивающих вселенную, — вполне себе романный замах. Он исследует, осваивает, описывает эпическое время, в котором ворочается, существует роман — но сам роман (возможно, как некая частность) остаётся не написан. Шульц уничтожает угрюмое понятие «захолустье», преобразуя его, аннексируя, присоединяя к «Общей систематике осени» — к миру вообще, к пространству, устремлённому не только по горизонтали, но и по вертикали. В центре мира стоит отец, творящий, сочиняющий, изобретающий велосипед чудак — частное проявление Творца.
Неудивительно, что в эссе о Шульце «прокрадывается» Музиль — книга сама устроена как роман. Неудивительно, что в ней присутствует эссе о философе Хайдеггере и поэте Целане (включающее собственный, хазановский, перевод целановской «Фуги смерти»), центральный драматургический эпизод которого — встреча Целана, автора «Фуги» и Хайдеггера, которому казалось, что «нацистский переворот возвращает человеческому существованию утраченную подлинность». Две значительные судьбы сталкиваются у Хазанова в абсолютно романном пространстве, в пространстве эпохи, которая «похожа на отбивную, по которой так долго колотили молотком, что она превратилась в дырявый лоскут». Не они ли — последние (и уже мифологические) герои прошлого, представляющего героя романа как субъекта, а не объект истории? Хазанов, кажется, уже тоскует по ушедшей поре, достоянием которого был эпос. В кратком «Реквиеме по ненаписанному роману» он подводит неутешительный итог: «Крушение веры в историю влечёт за собою крах полномочного автора», настаивая, впрочем, на том, что Роман, который бы «подвел черту под ушедшим столетием», должен быть написан — в том числе (а может быть, и в первую очередь) для реабилитации униженной человеческой личности «перед лицом зловещих фантомов — Нации, Державы, Истории».
Вероятно, найдутся и те, кто сочтёт последнее высказывание резким, а то и сомнительным, держа где-то глубоко в сознании убеждение, что нация, держава, история — эти, в общем-то, турбулентные потоки в общероссийском эмоциональном пространстве — что-то наподобие корсета, помогающего массам существовать в отсутствие простой и понятной национальной идеи, для вящего удобства. Но свобода предполагает высокую меру ответственности — об этом твердит Борис Хазанов. Это в первую очередь и нужно иметь в виду, читая книгу. И если вы всё-таки дойдёте до конца, то автор, как истинный романист, предложит вам эпилог — кратчайший, но при этом и объёмный. Одно его название — «Пушкин» — должно снять все обвинения и направить мысль относительно всего прочитанного в главное русло — так в иных стихотворениях последняя строка объясняет весь предыдущий текст. «Золотая латынь Пушкина», заключившая в себе не зловещие фантомы, а истинные историю, нацию и даже, если хотите, державу — утешает старого эмигранта, который всё ещё обживает чужбину и пытается оправдать «собственные литературные пробы и усилия», но не находит ответа. «Великое утешение» Пушкин — образ великой культуры, которая и после его смерти тоже существует в том или ином виде, поскольку «мы — его сироты — живы».
В этой связи и «плачевная участь литературы, вытесненной на обочину», не кажется мне такой уж плачевной. У нас, во всяком случае, есть умные книги, вроде этой, и есть кому их читать.
Спасибо за то, что читаете Текстуру! Приглашаем вас подписаться на нашу рассылку. Новые публикации, свежие новости, приглашения на мероприятия (в том числе закрытые), а также кое-что, о чем мы не говорим широкой публике, — только в рассылке портала Textura!




