Александр Марков
Родился в 1976 году. Доктор филологических наук, профессор (РГГУ, кафедра кино и современного искусства), философ, историк и теоретик культуры и искусства, литературный критик, преподаватель факультета истории искусства Российского государственного гуманитарного университета.
Разговоры в царстве живых
(О книге: Михаил Гронас. Краткая история внимания. — М.: Новое издательство, 2019)
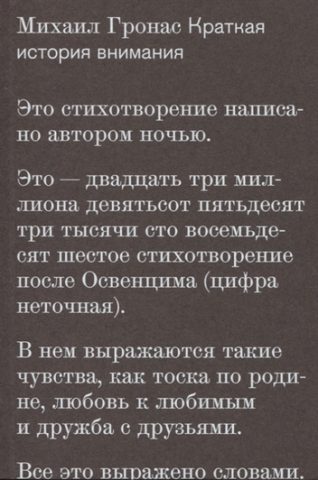 Новая книга Михаила Гронаса кажется светлее и прозрачнее предыдущей, «Дорогие сироты» (2002), но не потому, что поменялось настроение или интонация. Скорее расширились сами возможности поэтической речи, которая перестала следовать даже самому благородному элегизму и трагизму. Настроение стихов Гронаса не стало менее глубоким, но появились рядом глубокие догадки, соображения, конструкции смыслов. Одним словом, книга стала архитектурной.
Новая книга Михаила Гронаса кажется светлее и прозрачнее предыдущей, «Дорогие сироты» (2002), но не потому, что поменялось настроение или интонация. Скорее расширились сами возможности поэтической речи, которая перестала следовать даже самому благородному элегизму и трагизму. Настроение стихов Гронаса не стало менее глубоким, но появились рядом глубокие догадки, соображения, конструкции смыслов. Одним словом, книга стала архитектурной.
Как и в прежней книге главный сюжет — разговор вещей среди всеобщего равнодушия, иллюстрированная судьбами речи ситуация пламени под золой невнимания. Как всегда, Гронас никогда не употребляет метафоры как разгадки, что уж теперь мы всё знаем, но наоборот, как загадки, требующие дальнейшего продумывания, часто долгого, тянущегося. Поэтому Гронас любит рефрен и полурефрен, повторяющиеся слова и фразы — это не припевы, не мотивы — вообще любая музыкальная метафора здесь неуместна. Скорее, нужно это назвать точкой вглядывания, как в его сонете-не-сонете:
Сотри свой след и вот
Смотри под фонарём
На то как снег идёт
Или как мы умрём
Взойди на эшафот
Сугроба. Вот луна
Уже веревку вьёт
Из голубого льна
Стой под огнём зимы
Прими её пожар
Пошарь в её золе
Там в ледяном тепле
Лежит письмо тебе
Лежит письмо тебе
Конечно, это мнимый сонет, нарушающий правила жанра, но сразу встречающий строгостью мужских рифм. Первая строфа сразу заставляет вспомнить шлягер «Лили Марлен»: цинизм этого сюжета, немецкий солдат на восточном фронте, утративший любое представление о ценностях, но сохранивший лишь образ любимой, дан в предельно конспективном пересказе. Императив следующей строфы напомнит Бродского, в духе «Купи на эти деньги патефон…», но сразу же переходит в лирический образ голубой лунной верёвки, сказочный и предвещающий совсем другие императивы, нежные и смиренные. Кто готов перенести зиму как огонь и воду, тот знает, что «письмо тебе» важнее любых дальнейших искушений. Рефрен здесь — не способ создать настроение, интимного шёпота или душевного отзвука, но способ сказать, что дальше уже не будет искушений, что на сердце положена печать верности.
Когда Гронас начинает говорить узнаваемыми ритмами русской поэзии, мы вдруг встречаем тех героев, которых не встретили бы раньше:
закрыты глаза
но за ними видней
живущее за
и зовущее вне
сквозная дыра
но из этой дыры
сознанье глядится
в пустые миры
Это только начало стихотворения. Мы сразу узнаем ритмический прообраз — «Листья» Тютчева. Но у Тютчева требуется закрыть глаза, так хорошо листья помнят теплые летние дни и купанье в росе, что нужно скульптурно это представить, отвлекаясь от обычных образов, рано или поздно в памяти начинающих кружиться осенним вихрем. Гронас, наоборот, учит не искусству отвлечения, но искусству привлечения: «живущее за» и «зовущее вне» — никак не какие-то недоговорки, но наоборот, мы произносим это «за» и «вне» и думаем, сколько мы уже вспомнили о жизни и призыве, хотя никогда еще не бывали за гранью. Мы уже дома, мы уже подхватили какую-то родную вещь или родное слово, хотя бы еще не связали ничего необходимыми метафорами, как в старой лирической поэзии, где жанровая уместность метафор всегда должна была быть под рукой. Ассоциации включаются раньше, чем распоряжение структурами опыта, и Гронас показывает, что эти ассоциации оправданы, потому что сознанию есть куда глядеться, а распорядиться слишком пустыми мирами оно всегда успеет.
В каком-то смысле новая книга Гронаса акмеистическая, когда первая была символистская. Или, может быть, это русский вариант «Приморского кладбища» Валери, только без одичности разговоров в царстве мертвых, когда Валери приходит и зовет их выступать как положено в поэзии. Гронас никого не зовёт, напротив, он оказывается всегда окликнут мёртвыми:
Ну вот хоть это небо, эти реки, овраги, это регги из
окон общаги —
Нешто ни божьего гнева ни божьей коровки не осталось
в твоей картонной коробке?
Так не бывает, так не бывает: кто-нибудь рядом
напевает тревожит касается кожи
И тебя это тоже
Тебя это тоже
Касается
Таков финал стихотворения, где уже строки все начинаются с прописных букв, как реплики в пьесе. Завораживающий сюжет ближе всего к «Магдалине» Пастернака: «Для кого на свете столько шири, Столько муки и такая мощь? Есть ли столько душ и жизней в мире? Столько поселений, рек и рощ?» Только этот образ дан от противного: воскресший Господь сказал Магдалине «Не прикасайся ко Мне», а здесь есть только точка зрения Магдалины, которая понимает, что её уже коснулся и ужас смерти, и радость воскресения, и как она не может расстаться с ужасом и радостью, так и любой собеседник не расстанется с тем, что его или её это тоже очень касается.
Читая на обложке «Краткая история внимания», сразу вспоминаешь названия бестселлеров нон-фикшн, вроде «Краткая история мира» или «История пива в десяти кружках». Но краткая история внимания — это не история того, как усиливались познавательные навыки человека, но история того, как можно быть внимательным в своем творчестве к своему же творчеству. Старая лирика знала обычно один тип такого внимания — сновидческий, когда в творческом исступлении видишь свое же слово и свою же рифму. Но Гронас говорит не о снах:
Все сердца все сердца за загородкой
Он один его сердце неваляшка
Ходит легкой неряшливой походкой
Фляжка крови фляжка крови за спиной
Эта интонация и образность напоминает «Дорогих сирот», но за одним исключением: очень интенсивная звукопись неваляшка-неряшливой-фляжка не такая напевная, неофольклорная, как в первой книге, но наоборот, симфоническая. В каждом стихотворении Дашевского слышишь, что учтён опыт Ольги Седаковой и опыт Марии Степановой, смотреть не только на то, кто говорит, говорит ли горестная память или напрасная мечта, но и как именно передаются эти высказывания, какой патефон, радиоприемник или сетевой чат их приносит. Видеть, что за спиной, а что за загородкой — это навык распознавания самих каналов сообщений: сердце тоскует, любовь томит, смерть не повергла ещё сердце в пыль, которое оказалось неваляшкой — но после прочтения этих строк мы не думаем о прежних переживаниях, но вновь и вновь пытаемся распознать в себе, почему тревога может быть настоящей, но и почему наслаждение может стать невинным в мире небрежности и гибели. Что сделает неряшливую походку лёгкой? — наверное, умение распознавать, когда в канале связи возникают помехи.
Как и в первой книге, Гронас обращается к переводам, на этот раз уже не Кавафис, Тракль и Целан, а Рильке, Дю Белле и тот же Целан. Переводы Гронаса просто восхитительны, и они оказались нужны в книге, посвященной памяти Григория Дашевского, — наверное, самого чуткого знатока того, как сами нюансы речи меняют действие оригинала, и хороший перевод вовсе не запирает текст в готовую интерпретацию. Некогда в статье о космологической поэме античного ученого Арата Дашевский говорил, как по-разному читали эту поэму разные поколения стоиков, понимая астрологические связи то как знаки, то как реальные механизмы, и эффект поэзии оказывался тогда определяющим для такой философии, следующей фатализму, но и в какие-то мгновения распоряжающейся им. Так и здесь, читая по стихотворению в день (стихи Гронаса — идеальный пример такого не более одного стихотворения в день, а может быть — и одной строфы), мы вдруг просыпаемся и видим, насколько наше внимание усилилось там, где фатализма уже нет.
Спасибо за то, что читаете Текстуру! Приглашаем вас подписаться на нашу рассылку. Новые публикации, свежие новости, приглашения на мероприятия (в том числе закрытые), а также кое-что, о чем мы не говорим широкой публике, — только в рассылке портала Textura!



