Светлана Михеева
Родилась, живёт, работает в Иркутске. Заочно окончила Литературный институт им. Горького. Пишет стихи, прозу, эссе. Автор поэтических книг «Происхождение зеркала» (Иркутск, 2009 г.), «Отблески на холме» (М., «Воймега», 2014 г. ), «Яблоко-тишина» (М., «Воймега», 2015 г.), нескольких книг прозы. Публикации: «Дружба народов», «Интерпоэзия», «Волга», «Сибирские огни», «Журнал поэтов», «Литературная газета», «Юность», «День и ночь» (Красноярск), «Иркутское время» (Иркутск), «Лиterraтура» и др. Дипломант Волошинского конкурса 2010 (поэзия, проза), 2013 (поэзия). Руководит Иркутским региональным представительством Союза российских писателей.
Гений равновесия
О реке истории Бориса Пастернака
Приходилось ли вам замечать, как комнатные фиалки дремлют на фоне холодного пасмурного окна? – мучительное умиротворение, для которого сложно подобрать сравнение. От него погружаешься в сон, на опушенных листьях как на заколдованной перине сознание покачивается, готовое забыться. Подбородок опираешь на руку. Рука засыпает первой и отказывается тебе подчиняться, голова соскальзывает, дёргается. А может, ещё и падает на парту с характерным звуком. Учительницу этот звук отвлекает, она обрывает своё неутомимое гудение, с которым она так похожа на неутомимый самолёт, и включает сирену. Хоть какое-то разнообразие.
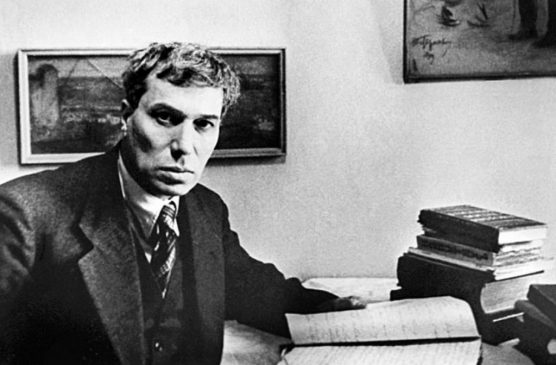
У меня, по правде, не было намерения читать стихи. Я лишь хотела отвлечься от снотворного учительского камлания. Стихи были тогда худшим вариантом – бессмыслица и апофеоз скуки. Но никогда не знаешь, где та граница, которую однажды нужно пересечь: вышагнуть из личного круга в безразмерность, у которой нет времён, а состояния условны. Так я перешла в себя – в нечто, способное существовать вопреки условиям и условностям. Вышла, оставив дверь незакрытой. Всего одно стихотворение успела я прочесть.
Из класса я тоже вышла – выгнали, книгу отобрали, велели потом забрать у завуча. На остановке общественного транспорта в центре Иркутска, который напоминал той весной ровное грязевое море при очень синем небе, деловито сложилось моё первое стихотворение. Отчётливое, к рассудку не апеллирующее понимание, что должна делать, впервые и, пожалуй, единственный раз до сей поры, охватило меня.
Вот каким подарком стал для меня Пастернак. Для подрастающих он полезен, как витамин.
***
Худшие стихи Пастернака – о войне, Великой Отечественной. Они возмутительны своей фиктивностью: плакатностью, живописностью переживания. Тишина и простота – самые поразительные качества военной поэзии, они уравновешивают её красное и чёрное, приводят к гармонии ярость поражения и ликование победы. У Пастернака тишина и простота декларируются: «Я даже выразить не пробую, как на душе светло и тихо». Но истории, которые он рассказывает, в связи с этим нелепы. Ни тишины в них, ни простоты – попытка завязать роман с военной темой, переведя её в русло эпоса. «Голос освобождённых территорий», который слышится ему в могучем голосе весны 1944-го, а также и другие суровые клише грубой патетики перекрывают голос поэтический.
Но это нельзя назвать неудачей – это скорее знак таланта, отличительная особенность: эти стихи плохи не мастерством, а тем, что они требуют большего. Большего обзора, большей пристальности, абсолютной свободы.
Его не могла интересовать сама война как действие – а лишь война как распорядитель истории, как волна, накатившая на человечество. Ему следовало видеть её издалека и описывать – издалека. То, что он и сделал в «Докторе Живаго». Но революцию и гражданскую он понимал – как слом и грядущее начало. Понимал через собственный опыт, опыт близких, был участником, исследователем, примирителем. Он знакомился с большим и тяжёлым понятием «народ», не противопоставляясь ему, но желая стать частью этого воспроизводящегося хаоса. Осознание приходило медленно, путём проб, ошибок, вариаций. Недаром «Доктор Живаго» появился так поздно. Пастернак не из тех, кто реагирует на злобу дня. Для этого дар его слишком ёмок.
Великая Отечественная оказалась совсем другим делом – хаос, рухнувший на головы более или менее непредсказуемо. Это требовало моментальной реакции, безапелляционной позиции. Но может ли быть безапелляционным человек, знавший историю и культуру так глубоко? Пастернаку мешал культурный код и вольные впечатления – Рильке, Марбург, всё, что он видел из окна марбургской гостиницы, мешала Цветаева, философия и много чего ещё. Об этой войне он высказался прямо в ноябре 1942-го: «война с духом тьмы». То есть – с чем-то неуловимым, необъяснимым, но неизбежным, ведь дух тьмы всегда противостоит духу света.
Духи, конечно, не создают почвы для описания. В них всё слишком общо, имморально. Тогда как моральность – цена и мерило цивилизации. В этом, может быть, автор значительного труда о жизни Пастернака Дмитрий Быков и видит противопоставление человеческой истории и природы. Природа также имморальна, она – дух проявленный. Но как раз она и может быть точкой отсчёта для моральности: жизнь – всегда светлая сторона, дающее жизнь – даже через смерть (осень, зима – погибание) всегда морально. То, что не даёт жизни угаснуть, – всегда положительная пища для нашей этической (и эстетической) системы.
Тёмный дух – «искус бомбёжек», хаотическое начало, – в любом возрасте вызывал у Пастернака жажду действия. «Любовь к катастрофе», названная Быковым, это, пожалуй, слишком неточно: страсть к энергии преобразования, к действию меняющему. Это восторг осознанной возможности в океане возможностей. Оседлать его, этот восторг, искру, которая зажигает, и привести его в состояние системы – вот над чем Пастернак всегда работал. Только система делает жизнь явной (как я обнаружила её, стихийно ознакомившись с «системой» Пастернака на школьном уроке литературы). К явности, осязаемости, предметности, вещественности – ко всем проявлениям мира материального он был внимателен и чуток.
Великая Отечественная звучала событием иного профиля – она не меняла, а просто ломала: дух тьмы утверждал себя, убивая всё вокруг, калеча мир людей, вещей, природу. Ему противостояли. Это была катастрофа без оглядки, в которой никто не надеялся и не питал иллюзий – защищались, стояли насмерть. Прошлое больше ничего не значило – поэтому не маячило и будущее. Выстоять – и больше ничего. Пастернак пытался описать героизм, его частные случаи, однако получилось вполне в духе советского плаката – в плакатной же рамке, неживое. Ноты он подобрать не смог. Он мог сколько угодно рассуждать о выборе, приводящем к смерти, – герой оставался жить в моральности, в духе. Но как описывать смерть, которая не предвещала выбора, и выхода не было – кроме общей воли, сжатой в кулак, кроме злости, которая могла бы раздавить врага? Для этого его дар, царствующий в жизни, для которой смерть – лишь изменение, переход в иное качественное состояние, оказался неподходящим.
Он, кажется иногда, трагичности не осознавал и не признавал. Живым воплощением трагичности был Мандельштам, который сгущался «в себя», осознавая свою личность, тело последним пристанищем духа. Фигурой античной трагедии застыла Ахматова. Но природа пастернаковского гения не терпела, во-первых, неподвижности, во-вторых, стремилась за свои пределы, ощущая всеобщность – присутствие единого духа, который в своём единстве обуславливал и человеческую историю. «Набит беспроигрышным роковым талантом», – говорил о нём друг Бобров.
И в чёрную рамку трагедии, которой стала Великая Отечественная, в белое плакатное поле, противостоящее чёрному полю сражения, не вмещались его строки, жизненность пузырилась, создавая уродливые наросты, которые застывали лозунгами, общими местами. Стоит прочесть концовки его военных стихов. Все эти стихотворения – окончены.
***
Тогда как весь Пастернак был – продолжением. Можно сказать, что огромному дару был отдан он весь с потрохами. Это нечто женское – отдаваться без остатка, которое Пастернак в себе без сомнения чувствовал. И навязчивая потребность сочувствовать женщине, спровоцированная изначально матерью, легко впадающей в истерику и экзальтацию, развилась в кругу подобных женщин, закрепилась видом женской слабости, помноженной на женскую производительность, – эта странность не что иное, как соболезнования своей собственной творящей части.
Возлюбленные поэта появляются в моменты кризисов, накануне событий. Они встают из пены, как Афродиты, – одна как воплощённая рациональность, другая как вопиющая юность, следующая – как трагедия потери, дальше – как соперница по безбытности, ещё одна – как воплощение быта, после – как возвышающий героизм безапелляционной романтики, и, наконец, заключительная – как иррациональное чувство природы, которая повелевает любить. Каждая из них – чаша весов к его чаше, к нему самому. Создание из ребра, если хотите: часть от целого, которое без неё не равно себе.
По его любовной биографии легко проследить путь духовного становления, который вылился в полное овладение миром вещей и явлений. Утверждая частное и материальное, он утвердил и вечное обновление. Обоснованность реального чувства не имела значения, играла роль сила и полнота взаиморавновесия. Платонизм иных отношений ничего не менял – воображение подводит нас куда реже, чем обстоятельства. Как только равновесие нарушалось, отношения теряли смысл. Принято возлагать ответственность за разрывы на дар как на безапелляционную силу, использующую людей и обстоятельства, – а, соответственно, и на его носителя. Но действовали всякий раз оба: Ида отказала, Евгения требовала, Зинаида управляла, Ольга приняла. Четыре главные фигуры – Ида, Евгения, Зинаида, Ольга – четыре сезона. Четыре образа равновесия.
***
Позволяет ли Всеобщий дух, порождающий гениев и через них разговаривающий с миром, самоопределяться носителю дара?
Человек – воля и осуществление: судьба и текст. Идея и её исполнение. Стремление Пастернака «преодолеть переусложнённость» – это ровным счётом действие с точностью до наоборот: стремление войти в невероятную структуру естественным элементом, уравновеситься. Он прямо говорил о равновесии – о «чуде гармонии» – в самых ранних своих произведениях. Он стремился быть частью, осознавать себя частью – и творить историю, отражая её как движение духа, а не как последовательность несчастий или совпадений. История – это способ, которым человек может быть проявлен в природе.
В раннем творчестве музыка его речи звучит неестественно, возносится над прозой, её терзает гордыня – оттого, что язык владеет событием. Он окутывает, завораживает, оглушает речью – «трагическая невозможность подобрать слова», как резюмирует Быков. Автор преобладает. В позднем возрасте он позволил событию владеть языком, отчего избыточность ушла, освободив место духу, который веет где хочет. Это факт ясности, который мы путаем с фактом простоты.
Простота – это фикция, которой охотно манипулируют, пытаясь сопоставить и раскрыть «понятность» и «непонятность» в поэзии. Юный Пастернак был предельно понятен своим пафосом и максимализмом – хотя казалось, что он непонятен, тёмен. Пастернак поздний считается предельно понятным, впавшим «как в ересь в неслыханную простоту» – но не поддаётся просчёту, ибо предельно гармоничен. Споры же о том, можно ли объяснить гармонию алгеброй, – тёмные споры и безрезультатные. Поздние стихи, освобождённые от автора, взявшие автора в себя, растворив и рассеяв его «Я» в простых и вечных предметах, приведя его в согласие с ненавязчивой и всегда торжествующей природой, торжествуют и сами, выйдя за свои собственные пределы: «И дольше века длится день / И не кончается объятье». Воля творца осуществилась.
***
Факт ясности высказан «историческим лицом», входящим «в семью лесин», рано, в 1913-ом: «Я – жизнь земли». А в 1956-ом «быть живым» декларируется как естественная обязанность художника. Но «быть живым» в стихотворении «Быть знаменитым некрасиво», которое, поддавшись соблазну, кто-то рискнул бы назвать «простым», – уже не констатация и декларация, но сопротивление: застою, серости, усреднению, омертвлению. «Живым и только до конца» – разве неясно? Это действие человека в истории, единственная роль которой – роль моста, соединяющего индивидуума с природой, которую следует понимать шире, как Вселенную.
История фиксирует человека как представителя рода, делает его больше частности, выводит за пределы животного мира. Это коллективное бессознательное, которое зафиксировало себя в обрывках и заметках, в переплетении частных жизней и деяний, во взаимодействии массы и личности, силы и слабости. К примеру, избитая тема «поэт и чернь», или «поэт и толпа», или «поэт и народ» (быть частью народа Пастернак всегда желал) – это попытка мыслить в направлении природы.
И противостояние, о котором упоминают исследователи, кивая на мысль Пастернака о том, что человек живёт не в природе, а в истории (и этим вроде бы ей противопоставлен), – это ни в коей мере вражда, и не в полной мере противостояние. Это лишь попытка освоить интуитивный опыт своего присутствия – на уровне осознания. Освоить волшебный опыт быть одной-единственной клетки, которая входит состав целого организма как неотъемлемая и необходимая часть. Природа – «как неописуемо захватывающий образец», в истории «утверждение такого образца требует не только мужества, но и жертвы» – такой справедливый вывод делает филолог Владимир Мусатов, исследуя влияние Пушкина на Пастернака и находя его соприкосновения с пушкинской традицией «благословления бытия». Быть подотчётным самой Вселенной, а фактически Творцу, означает быть в диалоге с высшим и всеобщим.
История – русло, по которому человечество вливается во Вселенную, суженную нами до понятия «природы». Именно поэтому «историческое лицо» входит в «семью лесин».
Именно об этом мы читаем в «Живаго».
***
Все было бы куда проще, если б не желание и способность человека творить, если бы не гений, провоцирующий конфликт художника в истории. Между силой потока и индивидуальной силой творца создаётся напряжение – напряжение между артистом и материалом, с которым он работает. Собственно, творец и его материал вступают в драматические отношения, результатом которых в удачном случае становится священное переживание – катарсис. Катарсис продлён в наблюдателе – читателе, зрителе. Он создаёт условия, позволяющие потоку течь, определяет его длительность.
Настоящий художник всегда ощущает это напряжение, эту драму, причиной которой может быть что угодно в разное время: вещи, действия, события, ведущие к переживанию. Это, если хотите, неотъемлемая часть дара, её священная часть. Это осознаётся обществом, творцам многое прощается. Для самого художника – это вечное беспокойство, болезненная зависимость.
***
Насколько носитель дара осознаёт свою зависимость от него и готов ли с ней примириться, подчиниться? Счастливый случай Пастернака свидетельствует: носитель осознаёт. И ко всему готов. Когда говорят о его стремлении уладить всякий конфликт, не допустить разлада, когда свидетельствуют о вялости позиции или «о двойном зрении» в произведениях, а то и о двойном стандарте – говорят о равновесии, гению которого Пастернак подчинился как гению гармонии. Это, собственно, и есть его творческий урок, наиболее полное требование его творческого дара: вписать человеческое на равных правах во вселенское, осознать судьбу человека-творца как часть всеобщего творческого замысла, в котором субъект и объект сливаются в целое – в источник интуитивного знания.
Свой творческий урок он исполнял двумя путями: от поэзии к прозе и от прозы к поэзии. Ощупывая пространство прозы нервными лапками стиха, делал выводы о вместимости и вмещаемости – любое произведение имеет свой объём. Разрешая ветру прозы веять в царстве поэзии, он проверял на жизнеустойчивость её фигуры.
В определённой точке Пастернак-прозаик и Пастернак-поэт столкнулись: там, где река истории впадала в море природы.
***
Может быть, это столкновение побудило его взяться за пьесу – о которой, впрочем, нечего говорить, так как она к моменту кончины автора ещё не вышла из возраста нелепицы. Роль главного обстоятельства столкновения исполнил, без сомнения, Шекспир.
Фигура Шекспира завораживала Пастернака своей универсальностью, став её символом. Он обнаружился как идеальный образ Творца – как центр своей собственной системы. Он вполне гармоничен, и ему не нужны никакие оправдания (или же комментарии). Шекспир не преодолевает себя, чтобы быть впущенным в мир, как Пастернак (который счастлив избавиться от себя, растворившись во Всём). Но он и не преодолевает мир ради самого себя (как Мандельштам, который боится себя потерять и как бы скручивается внутрь). Универсум – объективная реальность во времени и пространстве – заключается в балансе и совмещении «я» и «Я». В некотором смысле именно этот баланс и выражает расхожая фраза из Шекспира: весь мир театр, а люди в нём актёры. И главный вопрос каждого текущего момента – на какую выходить сцену.
Одно дело – на сцену, где происходит эффектная борьба очевидного зла с безусловным добром, и совсем другое – когда зло притаилось, замаскировалось и медленно отравляет. И герой выходит на подмостки, стоит у дверного косяка, ловит дыханье будущего. Романтическая поза артиста, которого Пастернак облачил в гамлетовы доспехи, – это «я» частное, трагическое. В фигуре Гамлета Пастернак ощущал родственное себе. Он тоже должен сделать этот волшебный выбор: «быть или не быть» – на иной почве, в иные времена примкнуть к истории всеобщей, к потоку, который направлен в великие воды Духа. «Что-то от Гамлета в нём самом» – записал Виталий Виленкин, завлит МХАТа, после прочтения Пастернаком своего перевода в 1939 году в театре. Немирович-Данченко тогда отверг перевод Анны Радловой ради «исключительного» перевода Пастернака.
***
Из этой же тяги ко всеобщему, к круговороту вселенского масштаба – пастернаковская тяга к земледелию, к обработке всякой почвы. Выращивая в прозе целые пустыри деталей и подробностей, высаживая целые сады многосложных метафор в поэзии, Пастернак окультуривает почву своего таланта.
«Его грудь заполнена природой до предела» – фантазировала Цветаева. У Пастернака царствует «великое в малом» – естественность и всецелостность, которая в поэте отдаётся эхом впечатлений, исполняясь на бумаге. И когда речь прямо идёт о природе, то всё-таки не исключительно о той природе, которая машет ветвями и задувает ветрами. Природа Пастернака как бытие включает и поэта (равного любой другой частице), в волнении истории, простирающей захватнические длани. Всё во всём.
А когда речь идёт о саде – а садов в его поэзии пучина – имеется в виду хаос, облагороженный творчеством. Когда говорится о том, что мирозданье – «человеческой страсти разряды», накопленные сердцем, то отдаётся дань творческому началу в его идеальном выражении, о смысле и принципе которого Пастернак размышлял всю жизнь. Страсти – то есть всё, что по градусу выше среднего, накал и ярость – управляют потоком истории, заботятся о том, чтобы она шла, чтобы движение не останавливалось. Любой физический или химический закон, способствующий жизни, всегда есть Равновесие. Равновесие – но не усреднение.
***
Избитое место: вегетарианские времена Хрущёва оказались для Пастернака куда более чрезвычайными, нежели предыдущие – смутные, кровавые, деспотичные. Времена усреднения, в которых уставшая страна увидела призрак – или образ – покоя, обратились для него в кошмар.
Бюрократическая машина, исповедующая невежество, помноженное на манию величия, вышла за пределы своей привычной функции и распространилась на то, что до поры существовало хоть и под контролем, но вне её полномочий. Поставить искусство на службу государству – это одно, но лишить его права быть искусством и говорить голосом искусства – это уже совсем другое. «Рутинизация харизмы» – как определил способ развития советской бюрократии Макс Вебер – привела к тому, что и от художника теперь требовалось быть не только полезной, но и единокровной частью морально дефективной системы. Частью, качественно соответствующей системе.
Выламываясь из системы этически и эстетически, искусство могло качественно менять её, воздействуя на болевые, слабые точки. Безусловно, государство, каким бы оно ни было, всегда стремилось привлечь людей искусства на службу. Грубые режимы подавляли, заставляли, терзали, если нужно. Режимы помягче – приманивали. Развратить удовольствием или прижать страхом – собственно, особой разницы нет. Но теперь вопрос стоял по-другому: от искусства требовалось зафиксироваться в системе.
Хрущёвская «оттепель», в которой сам Хрущёв, по его же собственному признанию, боялся «половодья» – невозможности удержать общество в рамках той жалкой «свободы», которая была отпущена – имела два классических инструмента: кнут и пряник. Она развращала «свободой» и одновременно жестоко карала общественным мнением – под эту раздачу и попал Пастернак, который, ко всему прочему, имел связь со сталинским режимом, будучи его фигурой, хотя бы и фигурой противостояния (разговор со Сталиным о Мандельштаме, отказ подписывать письма-приговоры). Однако травля Пастернака, ситуативно связанная с романом и Нобелевской премией, имеет в этой связи куда более глубокие мотивы. Это, в первую очередь, мотивы творца, а не мотивы обиженного и загнанного в угол человека. Стихи его последних лет, особенно сборник «Когда разгуляется», полны тишины и простоты – драматического переживания: он находился в конфликте с собственным опытом. Вопрос оставался всё тем же: быть или не быть?
***
Половодье – это как раз по части Пастернака.
Но как примкнуть к истории всеобщей, когда происходит «двойной подлог», когда бюрократия, которая ещё при Сталине образовала скелет режима, действует под маской свободы, обманно ослабляет вожжи – для каких-то своих целей? Веревка канцелярии сжимает, дышать не даёт, превращает людей в крыс. Пастернак выпадал из «царства посредственностей», которым правил больше не кровавый тиран, а «дурак и свинья». «Раньше расстреливали, лилась кровь и слёзы, но публично снимать штаны было все-таки не принято» – записал за отцом Евгений Пастернак в 59-ом.
То, что произошло с романом, должно было произойти, для того он и был писан. Для этого – вся проза Пастернака, через которую он мучительно продирался к «Живаго». Роман послужил лакмусовой бумажкой не столько на иллюзию «оттепели», сколько для понимания глобальных процессов унификации и стандартизации культуры, которая вела к ничтожности и к их – когда-нибудь – уничтожению. Сам факт творения профанировался. Появились определённые формальные требования к искусству, которые были приняты старой интеллигенцией в том числе и под воздействием политических послаблений, послуживших наркозом, наркотиком. Канцелярия прорастала в общество, скрепляя его, действуя как паразит и грозя скоро эволюционировать – и сегодня мы имеем успешно существующий симбиотический организм. Положение нашей культуры и нашего искусства сегодня – это тот самый симбиот, уродливый организм, подпитываемый ещё более отчаянным желанием «публично снимать штаны».
«Живаго» воспринимался тем более возмущённо, что имел ту самую проекцию в будущее – как и всякое произведение, которое мы осмеливаемся назвать гениальным, он предсказывал. Роман владел автором, не отпускал его и, казалось, внушался огромной и всеохватной силой, меняющей его течение в нужном ей русле. Он был проекцией природы, которая предупреждала человечество, используя в качестве медиумической связи чистый и высокий дар поэта.
Роман не был реакцией на текущие события – события миновали, в романе лишь утверждалось право человека на частную жизнь: на право жить не «всей поголовностью, всем населением» (как в романе Пастернак говорит голосом Симочки). Поэтому первые его читки вызвали раздражение, недоумение и разочарование. Ведь к этому моменту всякое желание осознавать себя, отвечать за себя и за последствия своих поступков у отдельного гражданина пропало – привыкали жить «поголовностью», что безопаснее и не требует затрат ума и совести. Полагаю, что декларация свободы никого в самом деле не обманула.
Нобелевская премия потревожила общество тем более. Сработал стокгольмский синдром, защитно-бессознательная травматическая связь, при которой жертва начинает оправдывать действия мучителя, приходя к выводу о необходимости своего мучения ради общей цели. На деле же – ради выживания. Как бы чего не вышло – и «диктатура посредственностей» приняла жестокое решение ради выживания массы как единого организма.
Подлинное искусство бескомпромиссно и сверхчестно. Используя «Живаго», история поставила советскому обществу неутешительный диагноз: тотальная несвобода духа. Что, собственно, и есть – царство посредственности.
***
Проигрывать природу как бесконечную и нестареющую пластинку – что ещё делать, когда миссия выполнена и остаётся вечность на последний диалог с Творцом?
Проигрывать природу, убеждаясь, что вечность существует и проявлена в ней обыденным.
Когда нечего больше сказать, потому что иное и сообщает по-иному: «Будущего недостаточно / Старого, нового мало…».
«Надо, чтоб ёлкою святочной / Вечность средь комнаты стала»: и «вечность» звучит не как профанация, затасканное слово, а как правда, созревающая здесь и сейчас.
В тишине, как в неотъемлемой части звучания, содержится символ Слова, его тайная часть. Семена вещей и событий доверены, наконец, тишине, обеспечивая путь человечества в вечность.




