Ольга Анатольевна Балла (р. 1965) — журналист, книжный обозреватель. Окончила исторический факультет Московского педагогического университета (специальность «преподаватель истории и общественно-политических дисциплин»). Редактор отдела философии и культурологии журнала «Знание-Сила», редактор отдела публицистики и библиографии журнала «Знамя». Публиковалась в журналах «Новый мир», «Новое литературное обозрение», «Воздух», «Homo Legens», «Вопросы философии», «Дружба народов», «Неприкосновенный запас», «Огонёк», «Октябрь», «Техника — молодёжи» и др., на сайтах и в сетевых журналах: «Лиterraтура», «Гефтер», «Двоеточие», «Культурная инициатива», «Русский Журнал», «Частный корреспондент», «Textura» и др. Лауреат премии журнала «Новый мир» в номинации «Критика» (2010). Автор книг «Примечания к ненаписанному» (т. 1-3, USA: Franc-Tireur, 2010) и «Упражнения в бытии» (М.: Совпадение, 2016). Единственная поэтическая публикация — в газете «Маяк» Пушкинского района Московской области. Живёт в Москве.
Блокнот для пауз
О книге: Алёна Бабанская. Акустика. — М.: АртХаус Медиа, 2019
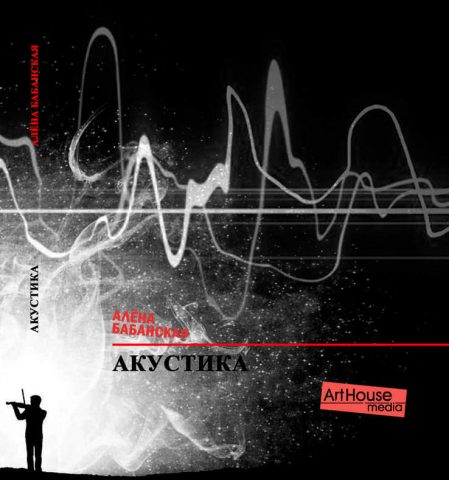 Стихи Алёны Бабанской стремятся к предельной простоте. Почти устраняют сами себя.
Стихи Алёны Бабанской стремятся к предельной простоте. Почти устраняют сами себя.
Они — скорее графика, чем живопись: их образуют осторожные (при этом уверенные, твёрдой рукой наносимые) штрихи, скупо-точные, обозначающие только самое главное. Только свет и тень. «Чёрное дерево горит, а белое тлеет. / Чёрное дерево вдали, / А белое рядом…»
Схема, чертёж. Можно было бы сказать — базовые структуры существования, но эти сдержанные, ироничные в своей сдержанности стихи чуждаются пафоса.
Простые, «бедные», почти аскетичные рифмы: «умирал — выбирал», «яблоки — зяблики», «пуст — «куст», иной раз почти тавтологичные «окрест — крест»; просторечия: «пёрушки», «поврозь», «Буратиной», «приколы»… — речь, как бы не принимающая себя вполне всерьёз. Приближенная к устной. К проборматыванию, к шёпоту.
Почти прозрачная простота оборачивается, однако, плотным — и сложно внутри себя устроенным — сжатием.
Это — (мнимая) простота притчи, (обманчивая) простота фольклора — который тут то и дело постукивает узнаваемыми приметами, характерными ритмами, присловьями, почти цитатами из него: «пешком — гребешком», «Там и ты мёд пива не пивал»… Внутри этой простоты — чуткая — и роскошная в своей сложности — звукопись, точная, как магнитофонная запись: слышен жёсткий шорох, с которым ветер ерошит «веток ершистый веер», слышно, как «огонь с хвостом барсучьим / Ползёт по сучьям» — тут слышен треск и ползучий шорох самого огня; «слёзной слякотью» мягко взблёскивает тающий снег) — стремление совпасть в говорении с самим шёпотом мироздания.
Это — мир, скорее подслушанный, чем выговоренный; позволение говорить миру. Не потому ли и «Акустика»? — основное движение этих стихов — вслушивание.
Поэт вслушивается и в то, что, казалось бы, не имеет голоса, — в само течение времени в предметах («А если дерево — дичок, / с тугими, мелкими плодами, / В нём время медленней течёт, / Незамутнённое садами»). Время вещественно, осязаемо («Бери его, пальцами трогай»), да и не оно одно: сам дух одной из здешних героинь «вязок, плотен, / Как вязаный зимний шарф», а словами можно кормить рыб, и окуньки будут «жиреть». И слух неотделим от осязания, и оба они — от зрения, ясного и чувственного видения, буквально ощупывающего предметы — по большей части, те, что ближе к глазам. Первоначальная, мифическая синкретичность чувств, изначальная их конкретность — как на заре мира.
Потому-то этому взгляду видны вещи невидимые: то, например, как каждый из живущих «висит на своей леске», которую одна «только смерть подходит и подсекает». Можно видеть, как время, большая рыба, «шевеля плавниками в Каме, / Шевеля плавниками в Волге», «медленно утекает». И, разумеется, оно живое. Оно вообще здесь настолько главный персонаж, что все другие насельники этих текстов — по существу, его облики: вот оно в облике грача «беснуется, летит, / брошенную корку волоча», то обернётся секундной стрелкой-синицей, то часовой-вороной (и уж не весь ли мир предстаёт как плоть времени?).
Мифологические персонажи существуют тут на равных правах с прочими живыми существами («За кустами леший бродит, / И тревожно кычет птица…»), неживые на равных же правах с ними — живы (аэроплан «в нас глядит глазами птиц», земля машет кулаками, тучи «ищут своё зерно, / В клюве переминают»); а человек обнаруживает телесное родство со всем сущим, он плоть от плоти мира, и у бедра его «шершавая кора».
(Не об этом ли родстве всего сущего — и звукопись отзывающихся друг в друге вроде бы разносемантичных слов, а через них — и самих явлений: «точно жимолость — одержимость», «зябнут как зяблики»?).
Бестиарий этих стихов вообще вполне фантастичен; однако это фантастичность, так сказать, фоновая, как бы сама собою разумеющаяся, она — ни в коем случае не основной предмет внимания, она почти по умолчанию. Но обнаружиться может в любой момент: так птица, грянув оземь «сизою голубицею», вдруг да «станет / Лебедем, царь-девицею, / Огненными цветами?».
Фольклор здесь — корень, уходящий глубоко в прапочву мифа. О ней опять же не говорится специально — её достаточно чувствовать.
Важно ещё, что это — речь почти безличная, с уклоняющимся «я».
«Я» в этих стихах смиренно: оно никоим образом не в центре повествования и не образует его главной темы. Оно и вообще-то не о себе, а если о себе — то как можно более через другое. Оно делает себя незаметным, его почти нет.
(То же касается и совсем ускользающего «мы», в которое это «я» как будто себя включает: «Птицам и агнецам / В нашем саду» — кто тут эти «мы»? Неизвестно — и высказано никогда не будет. Это интуитивная общность.)
Иногда «я» проглядывает — очень осторожно («Мой добрый бог с цигаркою в руке / Творил меня на фрезерном станке…»), но в целом, по большей части присутствует как угол взгляда, как форма его, как сама его возможность, как направление — и повышенная интенсивность — внимания: «Звоночки мои, колокольчики, скрипы!», «Сестра моя, проталина…» И здесь важно не «я», но проталина и чувство родства с нею. Важна — и совершенно достаточна — возможность присутствовать в мире и чувствовать его. Это «я» вообще больше и охотнее чувствует мир, чем себя — проникается чувствами всех предметов, ощущает всем своим невидимым телом, как проталина «в снегу лучом продавлена / Легчайшим — до корней», как «больней и глубже ранит лёгкое», как «млеет под лучом / травы живой пучок».
Здесь нашёптывает себя сама жизнь, «я» и не мыслит её заслонять. В облике слов во внимательное ухо входит её «дословесный <…> шепоток».
«Я» же почти не обозначает своих качеств (само его возникновение показано как в своём роде минус-процесс, как убирание лишнего: «добрый бог», творя повествователя этих стихов, «лишнее, как стружку, выбирал» — и именно это, что характерно, оказывается условием того, «чтоб божий дух во мне не умирал».) Обозначается оно ещё через свои координаты в бытии («я ведь тоже = одна из них, / Перепутавших верх и низ», — говорит лирическая повествовательница, глядя на ходящих в воздухе огненных рыб), через принятие иных обликов: «Обернусь я бумажным змеем, / Полечу голубиной почтой». Да ещё — через ускользание из всех координат, через то, что мир ловил, да не поймал: «Не берут меня неводы»; «Даже если минуешь сети, / на поверхность всплываешь реже», через непринадлежность и отсутствие: «Ничего-то тебе не светит. / Ничего-то тебя не держит», «И плывёшь в никуда, объясняешься знаками». Ему, кажется, проще, свободнее выговаривать себя во втором лице — или хоть в косвенных формах, но тоже редко: «мой», «моя»… И совсем-совсем редко — впрямую, — но по крайне важным, предельным поводам, когда невозможно иначе: «А я у смерти под пятой. / А я у смерти понятой», — самая честная речь о которых тоже может быть только предельно, до прозрачности простой:
Она отнюдь не праздник,
Хотя манит и дразнит.
Она наступит в 7 утра
От совместимых с жизнью трав,
От синевы и елей,
Без всяких важных целей.
Эту по видимости простодушную речь пронизывают внутренние цитаты —полускрытые, вросшие в речь, считываемые почти боковым зрением: «Получи предлинным письмом в конверте, / Погоди, не рви…» — эта цитата из настойчивых, всплывёт ещё раз: «Как письмо отверженной, / погоди, не рви»; «пусть утро казалось седым и туманным…», «если яблочко песни на мёртвых губах…» Культура здесь бормочет своё заодно с природой, едва отличимая от неё. Или неотличимая вообще.
А вообще-то — возникшая почти как обмолвка — «сестра моя, проталина» — это не только Пастернак с «сестрой моей, жизнью» (хотя и он тоже), это уже сам Франциск Ассизский.
На самом-то деле в этих почти аскетичных стихах свёрнуты ещё и большие пласты мировой культуры. Которая здесь тоже — по умолчанию. Никогда не предмет прямого взгляда.
Бабанская словно бы избегает обобщающих суждений. Она, как будто, — только о том, что перед глазами, только о том, что можно пощупать рукой, что вмещается в единичный акт восприятия. Каждому из небольших стихотворений соответствует не более одного события, одного внутреннего движения: мысли, воображения, чувства. Не истории, а ситуации — почти точечные. Акты созерцания. (И не попытка ли это говорить о жизни прежде смысла её, в досмысловых её движениях?) Событие не разворачивается, но обозначается, как возможность будущего движения — за пределами текста. (И не указывает ли в этом смысле каждый текст — за свои пределы?)
Вот блокнот для нот.
Осталось
Прикупить блокнот для
Пауз.
Чтоб носить под старость
В сумке
Немоты моей
Рисунки.
Однако за вниманием к малому («и от него всего-то прок / что летом тень и птичий посвист»), к преходящему — как «тень и птичий посвист», неизменно стоит внимание к тому, что «между строк», на что каждый предмет самим собой показывает, к «неписанной повести», к нескАзанному и несказАнному.
В каждом невеликом стихотворении, готовом стянуться в точку, — по формуле мироздания.




