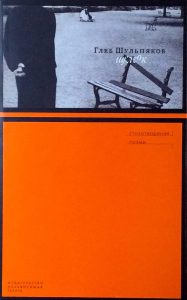Глеб Шульпяков
ЩЕЛЧОК. Стихотворения. Поэмы
Щелчок. Книга стихотворений и поэм. — М.: Издательство Независимая Газета, 2001
ЩЕЛЧОК
* * *
………с чёрного хода в литературу,
Где канделябры, паркет и булавки.
«Взял себе в жены какую-то дуру» —
«Да, но с глазами любовницы Кафки».
Выучил русский только за то, что
«драли буксиры басы у причала».
«Где-то читал, но не помню, где точно».
Вспомнил под утро, покуда светало.
И от бессонницы, от недосыпа,
от «выходить», «я», «один», «на», «дорога»
утром приснилась сушеная рыба,
очень похожая в профиль на Блока;
схема вагона, где ехала Анна
и разновидность прически у Эммы,
позже пригрезилось дуло нагана
из неоконченной Блоком поэмы
и замелькали поля и сугробы,
и запивали «Московскую» пивом.
«Русский художник стремится в Европу»
«Да, но кончает, как правило, Склифом».
«Остановите, мне зябко и страшно!
Перепишите последние главы!»
И белоглазая девка в Калашном
с легким акцентом читает «Полтаву»…
* * *
Я о том же, я просто не знаю, с чего мне начать,
вот и медлю, как школьник, оставшийся после уроков:
«Буря мглою…», «Мой дядя…»… А дома тарелка борща
с ободком золотистого жира и веткой укропа
уж остыла, наверно, и ровно в пятнадцать ноль-ноль
«В Петропавловске полночь» объявит по радио диктор,
а за стенкой рояль: ми бемоль, ми бемоль, ми бемоль,
(видно, был не в себе перед смертью глухой композитор),
и засыпано крошками детство, как скатерть стола,
и в ушанке из кролика кровью шумит голова.
Я о том же, я просто не помню, что было со мной:
на скамейках чернели, как ноты, влюбленные пары,
пахло липовой стружкой, когда я без шапки в ночной
выбегал за бутылкой на угол Тверского бульвара.
Открывал, наливал и читал ей чужие стихи,
и белела простынка, и долго с дивана сползала
на паркет… «В Рождество все немного волхвы….»,
но потом и она, прихватив однотомник, сбежала.
И стучали бульвары, как лодки, весь март напролёт,
и качался бумажный стаканчик, и бился об лёд.
Вот и всё. «Эй, в ушанке!» — «Вы мне?» — «Передай за проезд!».
«Остановка «Аптека» — «Фонарь…» — «А ещё в окулярах…»
И зажав, словно бабочку, мятый счастливый билет,
я качусь на трамвае, качаясь на стыках бульваров
там, где небо пшеничного цвета, как снег под ногой,
и песка что ванили на булках за девять копеек.
«Буря мглою…», «Мой дядя…» …а вышло, что кто-то другой,
повзрослев на передней площадке, сошел на тот берег.
И не видно в потёмках на том берегу ни черта.
И грохочет трамвай: тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та.
* * *
Л.Л.
Вечер, печальный как снег на картине
(поздний Вермеер без подписи, дата
старческим почерком). Посередине
комнаты лампа. В конце снегопада
слышно, как тикают часики.
С полки таращатся классики.
Что нам добавить к этой картине:
жаркое пламя в голландском камине?
пару борзых на медвежьей подстилке?
букли? фестоны? пачули? пастилки?
карту страны на штативе?
клетчатый пол в перспективе?
Врёшь, Пал Иваны, в старинном камине
нет ничего, кроме угля и сажи.
Если быть честным, камина в помине
нет в этом очень печальном пейзаже:
так, что-то вроде квартирки
площадью в две носопырки.
Пьяный хозяин сидит над бумагой,
слушает Наймана, капает влагой
на незаполненный лист.
Вид у него неказист.
И ничего из того, что мы с вами
(кроме Вермеера) нарисовали,
кажется, нету вокруг.
Снег по карнизу тук-тук.
Так что представим себе мизансцену:
окна выходят по-прежнему в стену.
Найман пиликает. Хочется выть.
Уголь. Без подписи. Скобку закрыть.
«ТАМАНЬ»
Евгению Рейну, с любовью
1.
Я двадцать лет с ним прожил через стенку
в одной квартире около Фонтанки…
В шестом часу утра, в буфете Бреста,
где режет по ногам сквозняк вокзальный,
за час до электрички на Варшаву,
я пил коньяк. Я ждал, когда поспеет
мой суп из курицы. Билет и пачка мятых
купюр с гирляндами нулей
топорщились в кармане.
«Еще полста — и все. Пора на поезд.
Бог даст, сегодня к ночи буду в Гданьске,
а там горячая вода, постель и чайки
кричат с утра, и крыши, крыши, крыши…»
Так думал я — и пил свой «Арарат».
«Не занято?» — «Свободно» — «Вот так встреча!»
Он сел, держа в руках лимон и рюмку,
немолодой поэт с немодной шевелюрой.
«Ты? Здесь?» — «Проездом из Берлина.
Решил, пока меняют рельсы, выпить».
Мы виделись в Москве последний раз
лет пять назад! «А ты куда?» — «Не знаю —
ответил я, забыв про все на свете, —
Сначала еду в Гданьск, а там посмотрим…»
«Есть повод выпить» — «Да, за этот город» —
«В котором чудеса еще бывают» —
и он, отставив локоть, важно выпил…
Вокруг небритые крутились мужики,
кассир ворчал, считая медяки,
в окне, качаясь, плыл зеленый поезд
и проводник в малиновом берете
держал флажок, повиснув на подножке…
Потом я ел свой суп.
Потом мы снова пили — за дорогу.
Он говорил, что новая жена
живет в Германии и учится по-русски,
и что души он в ней не чает.
«Знаешь,
я тут в журнале прочитал твою статью
о Лермонтове. Ты, конечно, прав
и как поэт он, в общем, не из первых,
но все же надо быть поосторожней:
нельзя, старик, так с классиком, ей-богу».
Потом была посадка на Варшаву
и он махал с московской стороны
вокзала мне рукой.
2.
Внезапно спутница моя сказала,
не вглядываясь даже в эти буквы:
Я, пожалуй, знаю. На нем написано
— «Ля традиненто», по-итальянски —
чёрная измена, обдуманное тайное коварство.
Проснулся я в купе на голой лавке.
В окне тянулись мокрые поля
и редкие, без листьев, тополя
как буквы на письме, клонились вправо.
«Ну как спалось?» — услышал я. Напротив
меня (вот эта да!) в купе сидела
девица двадцати примерно лет:
рубашка красная и кожаные джинсы,
и челка как в каком-то модном фильме.
«Спалось? Как в поезде на лавке» —
ответил я, пытаясь улыбнуться
и отыскать ногой второй ботинок.
«А вы, я вижу, не из наших» — «Не из ваших?»
«Москвич?» — «Ага» — «Куда? В командировку?» —
«Нет, просто путешествую. Бог даст,
сегодня к ночи доберусь до Гданьска,
а там горячая вода, постель…» — «…и чайки?
которые кричат с утра? и крыши?»
«А что такое значит «не из наших»?»
«Ну, не из тех, кто в Польшу с Бреста
мотается с товаром». И она
расхохоталась,
качнув бедром в тугой джинсовой коже
под носом у меня.
«А ты смешной.
Ты помнишь, как садился утром в поезд?»
«А что?» — «И этот твой, патлатый,
с щербатым ртом махал тебе рукой».
И тут она протягивает руку
и волосы мне ласково ерошит,
(и бедра, бедра в коже перед носом
качаются!)
«Послушай-ка, москвич,
здесь у меня вот в этой желтой сумке
пять блоков сигарет и литр спирта.
Будь другом, провези через таможню.
С российским паспортом они тебя не тронут
и в чемодан, конечно, не полезут.
А я в долгу, увидишь, не останусь
и мы с тобой в Варшаве погуляем».
Так говорила мне моя ундина,
а в окнах плыли мокрые поля
и редкие, без листьев, тополя
как буквы на письме,
клонились вправо.
И я, дурак, желая эти бедра
скорей обнять, укладывал уже
в свой чемодан «Винстон» и грелку спирта.
Потом была таможня.
И шляхтичи полдня шмонали поезд:
снимали подвесные потолки,
вытряхивали на пол бурдюки
и много контрабандного товара
в то утро отошло к великой Польше.
Меня же, как ундина обещала,
они не тронули.
…………………………………………………
Что дальше? Дальше мокрые поля
и редкие, без листьев, тополя
и что-то там про буквы на письме,
про жар в груди, когда рука в руке,
щека к щеке… «Давай-ка знаешь, что?
Давай-ка лучше выпьем» — «Что?» — «В буфете
есть пиво и еда. А я с утра
не ела ничего» — «Буфет?» — «В начале
состава должен быть буфет». И я,
пообещав, что буду через десять, —
«нет — через пять» — отправился вперед,
накинув куртку.
Я долго пробирался по вагонам
через мешочников, которые тащили
остатки табака и водки в Польшу,
но ни один из них не слышал о буфете.
Тем временем состав, замедлив ход,
остановился на каком-то полустанке
и все они как по команде вышли
на узенький перрон. «Какого черта!
Она ведь мне сказала, что теперь
не будет остановок до Варшавы!».
И я, предчувствуя неладное, пошел
обратно по притихшему составу,
где только сор лежал в купе на полках,
обитых синим дерматином.
Там, снаружи
в толпе мелькнула красная рубашка,
но поезд тронулся, зачерпывая небо
окном — и медленно отчалил.
…………………………………………….
Что дальше? Снова мокрые поля,
и редкие, без листьев, тополя,
и что-то о коварстве и любви,
о клятвах на разбавленной крови…
Вы скажете — она?… Ну да, она,
забрав товар, сошла на полустанке,
а вместе с ней исчез мой чемодан,
где был «Зенит» и плеер с диском Зорна,
будильник, бритва, номер «Иностранки»,
полно тряпья, одеколон и фляжка
с остатком коньяка (я, слава богу,
и деньги в путешествиях, и паспорт,
всегда ношу с собой в кармане брюк —
иначе бы пропал я в этой Польше…)
И вот в пустом составе «Брест — Варшава»,
который налегке летел по полю
вдоль черных тополей на горизонте,
я сел на лавку и захохотал,
и пять минут, ногой пиная лавку,
я ржал, пока седая проводница
не предложила мне поесть и выпить водки.
И я отдал ей мятые купюры
с гирляндами нулей, и получил пакет,
где курица была еще горячей,
а водка, хоть и била в нос сивухой,
казалась слаще меда.
3.
Поскольку ход судьбы непредсказуем,
то произвол творит мальтийский сокол
Что было дальше? Я приехал в Гданьск:
горячая вода, постель и чайки
с утра, и стрелы черных кранов
клевали тучи цвета спелой сливы
на горизонте.
В форточку врывался
морской сквозняк, и воздух пах аптечкой,
и вот тогда я понял, что случилось
со мной два дня назад:
«Тамань»!
Конечно же, «Тамань»! Герой, развязка —
все как у Лермонтова, только в наше время!
А я, дурак, сюжет просек не сразу…»
Так думал я — и пил в кафе «Зубровку».
Потом гулял вдоль главного канала
и жалюзи от ветра ближе к ночи
стучали створками на польском языке.
…А ночью снились мокрые поля,
и редкие, без листьев, тополя,
какой-то поезд, длинный и пустой,
а я один, и никого со мной,
но кто-то мне гадает по руке.
С тех пор я езжу в Польшу налегке.
* * *
В тишайшем городке с печальной лужей
на площади, где памятник тирану
с протянутой рукой свалил бы в лучший,
но лучший мир теперь не по карману,
в старинном городке, где звон бидона,
и штукатурка шелестит от ветра —
«Вы, что же, прима?» — «Нет, скорее Дона,
которая на сцене овдовела».
Покойника, обутого в штиблеты,
по улице заносят в рай ногами:
«Послушайте, вы верите в приметы?»
«Я верю, но не слишком понимаю..»
Трехцветный хлястик плещется на шпиле,
петляет речка, заключая в скобки:
«Ну как вам наш спектакль?» — «Вы забыли,
что мы на «ты» — «Уж очень он короткий».
«Три до театра, восемь до вокзала.
Тебе пора, иди» — «Я не успею».
А после, завернувшись в одеяло,
всю ночь смотрела мне куда-то в шею.
И розовело облако в окошке,
совсем как на картине у Сезанна,
была герань и, кажется, две кошки.
А вечером играла Дону Анну.
И что в дверях она ему сказала?
свой номер телефона? время дня?
Три до театра, восемь до вокзала.
И шепотом: «Не забывай меня».
* * *
Как Суворов пехоту в классический город,
перебив звонарей, я веду в этот стих
мой вокзал, где темно от владимирских бород
и торговку с охапкой убитых гвоздик.
Это жмых на снегу, а не рифма хромает
и язык заплетается после второй.
Пассажиры, уткнувшись в газеты, читают
и забытые вещи уносят домой.
Снова мусор не вывезли и лёд не сколот,
снова лодка колотится в сонной груди.
От Москвы до Подольска в такую погоду
никакой пастернак не отыщет пути.
Кода
Где тебя, милый друг, носят черти?
Возвращайся скорее домой:
в нём шинкуют, и квасят, и перчат,
и Суворов готовится в бой.
Мы покурим травы, посудачим —
в доме хохот и стёкла звенят —
хорошо в эту осень на даче.
И гвоздику кладут в маринад.
Лес хохочет, опущена роща,
тот же гомон и смех вдалеке.
Всё, Борис Леонидович, проще
и теряется в березняке.
* * *
Скоро кончится лето — немного ему осталось,
все вернется обратно, все будет, как раньше было.
За ночь прядь на березе желтела и опускалась,
а когда опустилась, вернулся Малинин с Нила,
подарил мне циновку, и масло, и два червонца
из храма Солнца.
Скоро кончится лето, скоро кончится, скоро осень,
а Никольский был в Праге, привез мне абсент и пива.
Я лежу на диване, дочитывая роман Джейн Остин
и абсент голубеет как небо, где сиротливо,
облака, словно крошки на скатерти, лиловеют
и чуть левеют.
Скоро кончится лето, скоро кончится, скоро лето
и на роликах уже не прокатишься по переулкам.
На заливе две лодки издают тишину, как где-то
написал чей-то классик. И тянет опять на булки
с маком или кунжутом, и чай в кафе с лимоном
под шум и гомон.
Скоро кончится лето, скоро кончится, лето, скоро
из Алушты приедет Рустам, а Наташа из Гетеборга,
привезут бабье лето и прочтут мне о том, что «море
это небо, которое можно всегда потрогать»:
перелить на ладонь вместе с мокрыми облаками,
стрелками и кружками.
Соберемся все вместе у меня на Щелчке и выпьем,
мне расскажут про Крым и Египет, про Гданьск и Краков.
Черт с ним, с летом — семь футов ему под килем,
а у нас впереди Скорпионы, Весы да Раки.
Осень пахнет на срезе антоновкой сладко-кислой.
Мы еще погуляем — от Герцена до
* * *
Н.Б.
1.
Третий день в наших краях дует весенний ветер,
снег становится чёрным, как старые доски.
Выходя из трубы, дым поворачивает на север
и мучительно долго плывёт, набирая вёрсты.
Ты заметил, что в марте всё кажется слишком длинным
и холодным, и даже окна выглядят уже.
Что это, сосны? Да нет, милый мой, это опять осины.
И пока ждешь автобус успевают замёрзнуть лужи.
Отправляйся пешком, мимо овощного рынка,
где торгуют хохлы и грузины, а ночью — крысы.
Захрустит под ногами стекло, но не жаль ботинка:
далеко до лета, но ведь дом всё равно — близко.
Дальше дом №3 по Песчаной, поворот направо,
двор, где пахнет котлетами и берёзовым соком.
Видишь, на скамейке пьёт москвовед Панкратов?
Это значит сезон открыт — наливай по полной.
Поболтай с ним о новоделах и двигай дальше.
Скоро станет совсем темно, да и руки мёрзнут.
Как лимонная косточка, под окном Наташи
Прорастает месяц. «Кто там?» — «Не поздно?».
На часах девять двадцать, у Наташи гости:
на столе глинтвейн, на тебя смотрят чужие лица.
«Я, наверно, не вовремя» — говоришь, со злости
хлопнув дверью впотьмах. Двадцать один тридцать.
2.
Между тем стемнело, стало больше горящих окон,
абажуры на кухнях — красные, зелёные, голубые.
Разливая чай, женщина придерживает локон
и беззвучно шевелит губами: пироги остыли.
Дальше школа: тёмная, как портфель из кожи.
Днём здесь очень шумно, а вечером, как на кладбище.
Видишь, на фронтоне высечены какие-то рожи?
Это классики: Пушкин, Горький, Толстой, Радищев.
Три ступеньки с торца, дверь, козырёк под снегом —
здесь живёт одноглазый сторож, глядит за садом.
В старших классах говорят, что старик с приветом,
в младших классах считают его пиратом…
…За коробкой пустырь, его долго обходят с фланга
словно красс-антоний-алкивиад-перикл
гаражи, бытовки, ангары, и торчат как флаги
голубятни, продолжая обход, а точнее — цикл.
Где ты, Ментор, или как там тебя, Арбитр?
Я замёрз и промок, я уже не чувствую шеи!
Небо в звёздах колется, как шерстяной свитер
и не видно конца этой мартовской одиссеи…
ГРАНОВСКОГО, 4
Не родился, не вырос на улице имени Герцена,
не ходил в детский сад по маршруту, которого нет
Я попал сюда в годы, когда начиналась коммерция
и Манеж перекрасили в ярко-оранжевый цвет.
1.
«И чем же все закончилось?» — «Наш дом
купили то ли шведы, то ли финны,
и наше коммунальное гнездо
за сорок восемь мартовских часов
разворошили».
«А ты?»
«А я тогда свалился с жутким гриппом,
который по Москве гулял в ту пору
(грешили бабки на комету,
которая в тот год прошла так низко,
что желтым шлейфом город наш задела).
Короче, у меня был жар под сорок,
поэтому детали переезда
я не запомнил».
«А твой сосед?» — «Который?» — «Монте-Кристо!
Что стало с ним?» — «Бедняга воротился
спустя примерно месяц из больницы,
но вместо своей сказочной пещеры
увидел дом, где выставлены окна
и пусто в голых комнатах». —
«Как жаль…»
«Да, жаль… он, говорят, еще полгода
ходил вокруг да около развалин
и все смотрел, смотрел, смотрел…
Спал, говорят, он здесь же, во дворе,
одежда ветхая на нем рвалась и тлела,
и так он свой несчастный век
влачил, ни зверь, ни человек…»
«Как жаль…
…ну, а потом?» — «Потом прошло сто лет». —
«Не может быть!» — «…и целая страна,
как лодка в шторм, легла на дно пролива». —
«А что же дом?» — «А в нем теперь отель,
и если кто-то помнит о минувшем,
то разве древоточцы в старых стенах,
когда не заменили эти стены».
Мне скоро тридцать, ей почти семнадцать,
и мы идем по Герцена навстречу
своей судьбе, и в рюмочной садимся.
Еще далёко мне до олигарха,
но я коньяк заказываю лучший,
и Стасик нам приносит штоф, лимоны,
конфеты «Мишка», кофе — весь набор, —
и мы сидим в кружочке желтой лампы,
а за окном поблескивают лужи,
и желтый круг становится все уже.
2.
«Ты жил. Одна заря с другой
шли с интервалом в трое суток.
Когда не дождь, то снег зимой
спешил засыпать промежуток.
И по колено в октябре
ты объяснялся новым слогом,
и правил уличный размер,
и переписывал в эклогу…»
Так я писал на новенькой «Любаве».
(Была, была такая пишущая машинка.
В те времена она считалась хорошей,
и купить ее было трудно,
поэтому я очень гордился, что она у меня есть,
даже несмотря на то, что стихи, напечатанные на ней,
были говно-стихи.)
Большая комната с лепниной по углам
в старинной многоярусной квартире
досталась мне случайно.
Мой приятель
работал дворником, но будучи женат,
жил у жены (известной потаскухи
с глазами школьницы), а дворницкую, что
ему по всем законам полагалась,
сдавал мне за копейки.
И вот в огромном доме, где когда-то
жил Сеченов, Зелинский и Семашко,
а Павлов, говорят, на чердаке,
терзал своих собак — так вот, в огромном
старинном доме, в комнате над аркой,
где желтая лепнина по углам
крадется —
я жил.
Легенды говорили,
что в этой самой комнате над аркой,
перебиваясь с хлеба на стихи,
жила Цветаева, когда ее родных
забрали на Лубянку. Говорили,
что здесь она впервые примостила
петлю под потолком — да вот соседи
ее успели вынуть из петли.
В тот раз они Цветаеву спасли.
Я жил примерно с месяц в этом доме
тайком от всех: от баб, друзей, родни.
Забросил институт, диплом, работу,
спал до обеда, выходил под вечер
в «Гриль-бар» перекусить и выпить пива,
и возвращался, словно опасаясь
оставить комнату пустой.
Я погружался.
И вот, набрав довольно глубины,
когда все звуки полностью исчезли,
я медленно поплыл:
читал ночами напролет, писал стихи
на новенькой «Любаве», мог часами
смотреть в окно на снег и на деревья,
и даже это самое окно,
купив набор из красок, расписал
под старенький витраж.
(За образец
был взят витраж с обложки журнала
«Наше наследие», 1989 год.
Копия, конечно же, не сохранилась,
а вот оригинал витража
и по сей день можно увидеть в Питере
на втором этаже здания страхового общества «Россия»,
что стоит на Морской — а тогда еще Гоголя —
улице.)
Но вот что было странно.
С тех самых пор, как я сюда вселился,
в старинной многоярусной квартире
живой души ни разу я не видел.
Порой я слышал звуки голосов,
и женский плач, и тихий смех за стенкой,
и трели телефонных аппаратов
мерещились мне в этой тишине
(хотя наш дом стоял без телефона).
Порой обутые в сандалии шаги
в коленчатом и темном коридоре
чуть слышно пряжкой звякали, потом,
как правило, вздыхал бачок в сортире,
щеколда громыхала, и шаги
стихали за огромным старым шкафом,
стоявшем в коридоре пироскафом.
И все.
А после — тишина,
которая висела, как пустой
рукав пальто.
Но как же в этой самой тишине
спалось за пазухой зимы! какие сны
мне снились под спадающей лепниной!
какие женщины лежали в этих снах,
и облака, какие облака,
подкрашенные наспех синей краской,
как на старинных фотографиях, вплывали
сквозь мой витраж ко мне в мое жилище!
Но вот однажды заполночь, когда
я что-то там читал под желтой лампой,
в мою обитую клеенкой дверь негромко,
но внятно постучали:
ток-ток-ток.
3.
«Привет». — «Ты кто?» — «Здесь спрашиваю я». —
В дверях стоял приземистый, небритый,
с цыганскими глазами, на кривых
коротких ножках — карлик? домовой? —
какой-то парень в тесно-синей майке
и странно мне подмигивал.
«Пить будешь?» — «Буду». — «Вот и хорошо».
И он, открыв мой старый холодильник
(а был он ростом с этот холодильник),
достал полбанки кетчупа и булку.
«Не густо». — «Что поделать». — «Ну, пойдем».
«Пойдем куда?» — «Манда. Искать закуску».
«Не думаю, что наши магазины…»
«А кто тебе сказал про магазины?»
И он махнул рукой: иди за мной.
Я быстро натянул рубаху, свитер,
демисезонные ботинки «Salamander»,
отцовское пальто с высокой стойкой
на шелковой подкладке цвета «хаки»
и вышел в коридор.
Он ждал внизу —
ушанка, ватник, валенки в калошах —
и тщательно закрыл на два замка
входную дверь. «Готов?» — «Готов». — «Пошли».
На улице описывал круги
февральский снег, и улица скрипела,
как сетка на кровати, под ногами.
(Как я потом узнал, именно в эту ночь
начинались знаменитые московские морозы,
которые стояли весь февраль и унесли
жизни 49 человек, преимущественно алкашей,
замерзших прямо на улице.)
Мы долго с ним петляли в переулках
Станкевича, Белинского и прочих,
не менее известных онанистов,
и он во все дворы свой карлик-нос
совал и что-то там вынюхивал, как кошка,
а я стоял на улице и небо,
обметанное пятнами известки,
звенело от мороза над Москвой.
Мороз кусался. Я хотел домой.
«Иди сюда!» — «Куда?» — «Чего орешь!» —
он зашипел, махнув рукой на дом,
который назывался «Соловьиным».
«Увидишь, кто идет, — кричи!» И он
метнулся кошкой через двор к окну
на первом этаже, присел на снег,
и нож достал, и что-то там затеял
с ножом и сумкой на окне.
А через две
минуты мы бежали что есть духу
по Герцена домой с большой авоськой,
набитой свертками и разными кульками,
которую он срезал на окне.
(О ту пору в центре Москвы
жили небогато, поэтому очень часто —
за неимением холодильников —
зимой хранили жратву за окном, привязывая
пакеты и сумки веревочкой к форточкам.
Еда, можно сказать, валялась в Москве под ногами,
чем и воспользовался мой новый незнакомец.)
4.
«Заходи!» —
отгрохотав тремя замками, он открыл
в углу за старым шкафом створку двери,
которую каким-то чудом раньше
я никогда не замечал. И я шагнул
в египетскую тьму его жилища —
и что я тут увидел!
В огромной комнате стоял в углу камин,
и сквозь экран еще мерцали блики.
На черном лакированном паркете
лежала шкура белого медведя,
в простенках пухли вазы из фарфора,
и стол, двуспальный стол (мечта поэта!)
зеленого сукна с тяжелой тумбой
и штучной выкладкой на ящичке мореном,
стоял в алькове.
«Как тебе жилье?
Еще мне обещали пару этих,
не помню, как их, в общем, пару тряпок
с павлинами на стены…» — «Гобеленов…»
«…тогда вот можно справить новоселье.
Ты, кстати, водку запиваешь?»
И он откуда-то достал канистру с пивом.
А на столе тем временем лежали
порозовевшие в тепле цыплячьи грудки,
слезливый астраханский сыр за трешку
с копейками, и сливочного масла,
крестьянского хозяйственный брусок,
да миска непочатая сметаны,
да банка с баклажанными делами,
а может, кабачковыми.
«Концы —
в огонь!» — и он швырнул авоську
в камин, который тут же вяло вспыхнул
и поглотил остатки наших дел.
А на плите уже вовсю пыхтел
чугунный казанок, и пахло луком,
и чесноком, и старым русским духом.
А дальше, как положено, всю ночь
закусывали курицей тушеной
и «Жигулевским» жадно запивали
«Сибирскую», где тройка с бубенцами
и сорок пять прозрачных оборотов.
Мы, кажется, о чем-то говорили,
потом под утро звякнул телефон,
и он, прикрыв ладонью трубку, долго
шептал, потея, что-то в аппарат,
и странные слова — «титан», «германий»,
«металлика» и «восемь к одному» —
мелькали то и дело в разговоре.
«Скажи, ты кто?» — спросил я в пять утра.
Он молча взял четвертую по счету
бутылку водки, снял с нее зубами,
как листик с ветки, жестяную крышку
и в рюмку мне налил.
«Я Монте-Кристо», —
сказал он после паузы. «Чего?
Ты Монте-Кристо?» — я поддел остатки
тушеной курицы с тарелки. «Да, тот самый…» —
но курицу до рта я не донес —
«…который был невинным осужден
и двадцать лет провел в сырой темнице,
потом бежал, скитался, голодал,
но чудом жив остался и теперь
желает мстить за подлое коварство!»
И он, смахнув слезу, с размаху выпил
и снова влез на свой высокий стул.
Тут я, признаться, несколько струхнул:
не спятил ли мой новый незнакомец
на почве алкоголя.
«Нет, мой д’гуг!» —
он стал вдруг отвратительно картавить. —
«То злой Мег’куцио у Шейлока г’ешил
похитить дочь, п’гек’гасную Миг’анду!»
«Миранда, Монте-Кристо…» — после трех
бутылок, да под утро, мой язык
ворочался с трудом.
А он меж делом
спускается со стула вниз, и лезет
куда-то под кровать, и достает
оттуда ящик, а, вернее, кофр,
обитый кожей, с медными углами,
и, не сводя с меня цыганских глаз,
большую крышку кофра отпирает,
большую крышку кофра поднимает
и говорит:
«Ну что, смотри!»
Я присел на корточки около ящика
и осторожно, чтобы не потерять равновесия,
заглянул внутрь. Сперва мне показалось, что ящик
набит какими-то железными деталями —
втулками, например, или пластинками, —
но когда я взял в руки одну такую пластину,
то понял, что это — позеленевшая медная табличка,
на которой все еще можно было разобрать
витиеватую надпись: «Докторъ Зелинскiй».
В том же ящике я обнаружил вот еще что:
медные колокольчики и золотые сигарницы;
рукоятку от пресс-папье и чернильницу,
выполненную в форме турецкой мечети;
набалдашник от палки, шпоры и уздечку;
ножичек для бумаги с костяной ручкой;
серебряные ложки и лопатки с орлами
и вензелями; дверные ручки разных конфигураций;
табакерки, бутоньерки, булавки, клинок
с надписью «Драгунского лейб-гвардии полка
офицеру А.Ф.Корфу от сослуживцев»
и много другой мелочи, назначение которой
мне было попросту неизвестно.
Но больше всего мне понравился
серебряный перстень с трилистником
и черной резьбой, который лежал
на самом дне этого фантастического сундука.
«И что все это значит?» — Я поднялся,
засунув кулаки поглубже в брюки.
«А это значит, — он захлопнул крышку, —
что я, как Монте-Кристо, получил
в наследство город, что набит металлом:
медь, кобальт, серебро и «волчья пена» —
вольфрам, — и платина, и никель, и титан —
все в этом городе мое, поскольку я…»
«Ты Властелин Колец и Нибелунг!» —
я попытался подыграть ему, но тут
его лицо покрылось мелкой дрожью,
как будто рядом с ним был вивисектор,
и он, дыша в лицо мне перегаром,
свистящим шепотом сказал: «Не знаю, кто
тебя послал и что тебе здесь нужно,
но с этих пор ты знаешь мою тайну,
а стало быть из комнаты моей
живым не выйдешь». Тут стальной клинок
«Драгунского лейб-гвардии полка
А.Ф…» мелькнул в его руках,
но стул качнулся и, взмахнув руками,
он грохнулся на белого медведя
и тотчас захрапел, обнявши морду
медведя, как ребенок.
5.
Очнулся я на собственном диване
в кромешной темноте — как был в штанах
и байковой рубашке. На полу
стоял электрочайник в изголовье,
но чайник был чудовищно пустым.
«Который час?» —
отсохшим языком
едва ворочая, сказал я в темноте
и стал на тумбочке искать часы. Часы
показывали семь. Но семь чего?
Я встал, зажег огонь и огляделся.
Что тут увидел я!
Мой холодильник
был передвинут в качестве заслона
к входной двери. Утюг, «Любава», книги —
короче, весь домашний скарб
был водружен на этот холодильник,
и даже туфли фирмы «Salamander»
стояли сверху.
Тут-то я и вспомнил,
что приключилось ночью. Осторожно
я разобрал у двери баррикаду,
надел ботинки и пальто с высокой стойкой
на шелковой подкладке цвета «хаки»
и вышел в коридор.
Едва ступая,
прошел по коридору мимо шкафа:
и точно, дверь была на прежнем месте,
(как раньше я ее не замечал!),
но так же, как и раньше, ничего —
ни свет, ни звук, ни запах — ничего
не выдавало в ней ее жильца,
как будто все, что было этой ночью,
приснилось мне в моем нетрезвом сне,
когда в нетрезвом сне приснится может
такое…
…Я тихо вышел на февральский снег
и зябко потоптался на крылечке
под желтой лампой. Желтый-желтый пар
клубился надо мною в тишине
и снег скрипел,
как сетка на кровати.
«Который час, не скажете?» — охрипшим,
едва знакомым голосом спросил
я у прохожего с портфелем. «Скоро восемь», —
ответил он, поежившись. «Чего?
Восемь чего?» — «Однако», — и прохожий,
ответив, как в одной известной книге,
переложил портфель в другую руку
и шаг ускорил.
Я с крыльца спустился
и вышел в переулок. Были в небе
созвездия расставлены, как стулья,
дымы кручеными веревками тянулись
по небу над обметанной Москвой,
и улица лежала вся в сугробах,
как пряник, с кренделями фонарей.
Мороз кусался. Я пошел быстрей
и целый час шатался в переулках
Станкевича, Белинского и прочих,
не менее известных онанистов,
пытаясь выгнать хмель.
В конце концов
я очутился в маленьком кафе
у Хлыновского тупика, где черный кофе
варили на песке в копченых турках,
и взял двойной с дешевым бутербродом
за гривенник, и с этим бутербродом,
где сыр вспотел и высох по краям,
пил кофе и глазел себе в окно
на Герцена, которая лежала,
как ношеная шуба на снегу,
раскинув рукава по переулкам.
6.
«Посторонись!» — «В чем дело? Что случилось?» —
у самого крыльца в моем дворе,
мигая в тишине синюшной лампой,
стояла «Скорая», и двое санитаров
сносили, матерясь, по ледяным
ступенькам чье-то тело на носилках.
«Скажите, ради бога, что случилось?»
«Да вот какой-то фраер со второго
закусывал водяру люминалом», —
шофер курил в открытое окно,
и дым от сигареты закипал
в морозном воздухе.
Я глянул на носилки —
не может быть! — вчерашнее лицо,
и карлик-нос, и черные вихры
на грязной наволочке!
«Он… скажите, он…» —
я с ужасом смотрел на синий рот,
обметанный какой-то белой дрянью.
«Ты что, его сосед?» — «Скажите, он…» -—
«Да жив он, жив. Какая-то девчонка
нам позвонила два часа назад
и жизнь ему спасла».
Он докурил,
поднял стекло и развернул газету.
Я медленно забрался на второй
этаж, зашел в квартиру и беззвучно
замкнул входную дверь. «Ну и дела!» —
вертелось в голове. «Ну, Монте-Кристо!» —
шептал я, на ходу снимая шапку
и варежки в прихожей.
В коридоре
за старым шкафом желтая полоска
от лампы по линолеуму шла,
и низкая за шкафом дверь была
на треть открыта. Я остановился,
и, чуть дыша, двери рукой коснулся,
и приоткрыл ее —
что там увидел я!
Все было перевернуто вверх дном —
на черном лакированном паркете
с глубокими царапинами шкура
в каких-то бурых пятнах со следами
сапог лежала; черепки от вазы,
объедки курицы, бутылки, книги, тряпки,
часы и желтые коробки люминала —
все тут и там валялось на полу;
а главное — сундук, точнее, кофр,
тот самый кофр с железными углами
стоял, разинув крышку.
«Ну и ну…» —
я прошептал, оглядывая поле
сражения — и вдруг ее увидел:
на низенькой кровати, там, в алькове,
сидела девушка в каракулевом драпе
и тихо плакала, прижав ко рту платок.
С минуту мы смотрели друг на друга,
и я узнал разрез цыганских глаз,
и челку черную, и тени смуглых скул —
и растерялся, и слегка кивнул,
и дверь тихонько в комнату прикрыл.
Сундук был пуст. Я, кажется, простыл.
7.
«И чем же все закончилось?» — «Наш дом
купили то ли шведы, то ли финны,
и наше коммунальное гнездо
за сорок восемь мартовских часов
разворошили».
«А ты?»
«А я тогда свалился с жутким гриппом,
который по Москве гулял в ту пору.
Короче, у меня был жар под сорок,
поэтому детали переезда
я не запомнил».
Был допит коньяк,
и фантики от шоколадных «Мишек»
скрипели на столе. «Ну что, пойдем?» —
«Сейчас пойдем». — «Скажи мне, ты…» — «Ну что?»
«Ты все это придумал?» — «Я? Конечно». —
«…и не было ни шкуры, ни камина,
ни девушки, ни всех этих сокровищ…»
«Конечно, не было. Какие в наше время
сокровища? камин? медвежьи шкуры?»
Она поставила на стол пустой бокал,
потом лицо ладонями закрыла,
тряхнула головой — и улыбнулась:
«А я поверила…» И молча закурила.
А я смотрел в окно и повторял:
«Титан… германий… «волчья пена»… никель…
А может быть, и вправду, мне приснился
тот вечер десять лет тому назад,
мороз февральский, небо над Москвой,
обметанное пятнами известки,
и мой сосед, подпольный антиквар,
фарцовщик, сутенер и шизофреник…»
Так думал я — и медленно вращал
на среднем пальце белый перстенек
с трилистником и черною резьбой.
«Пойдем?» — «Куда?» —
«Пойдем ко мне домой».
Москва, апрель-август, 2000.
* * *
В Сан-Франциско бродит призрак.
Этот призрак — Ален Гинзберг.
Этот дом похож на айсберг,
он плывет по мостовой.
Я живу в отеле «Ницца».
Я иду, как говорится,
прошвырнуться, прокатиться,
засадив косяк с травой.
У меня в кармане зелень.
На деньгах зеленый Ленин
прячет лысину под букли.
Это цифры? Это буквы.
Я спускаюсь вниз на лифте.
Здрасте, здрасте, проходите.
Вы в каком? Я в два ноль восемь.
Я зайду под вечер? Prosim.
Я иду на угол Castro.
Два красивых пидараста
поджимают ягодицы.
Дай мне бог с пути не сбиться!
Я в кино. Какой-то фраер
курит pot в девятом с краю.
Кто-то кончил на галерке.
Это пенки? Это корки.
А в китайском ресторане
мне подали много дряни.
Дрянь блестела словно мыло.
Я не понял — шо це било?
Я карабкаюсь по склонам.
Лес растет спиной к муссонам.
Это сосны? Это шпили.
Это Крым. Но в техно-стиле.
Холод. Мрак. Я в чем-то длинном
заправляюсь «Газолином»
в City Lights. Вы Ферлингетти?
Он один теперь на свете.
И ползет туман на холмы.
Перелистывает волны
океан. Стоят ворота.
Это рыбы? Это шпроты.
Я плыву по Сан-Франциско
словно хвостик от огрызка,
выпив рюмку Маргариты.
Это стены? Это стриты
и еще совсем немного
звезд на бороде у Бога,
хлебных крошек в старой шляпе.
Эй вы, небо! Спит на лапе,
и звенит в огромном ухе,
и урчит в голодном брюхе,
и летит над Сан-Франциско
черный ангел — Ален Гинзберг.
* * *
1.
Поезд причаливает к перрону, как после шторма
корабли, оседая на правый борт в сторону суши.
В городе утро. Сонные продавцы поп корна
катят свои тележки, и под ними сверкают лужи.
Ты выходишь последним, после бессонной ночи
забывая перевести вперед часовую стрелку.
На рекламных плакатах vita здесь тоже dolche,
и бомжи пьют как боги. Воняет мочой, побелкой.
Сквозь восточный базар носильщиков и таксистов
с вороватыми лицами и пустыми, как щи, глазами
ты на главном проспекте имени террористов-
комиссаров-курьеров-падений тире восстаний.
В ресторане пусто, два пижона в помятых тройках
похмеляется брютом, на блюдце лежат лимоны.
«Мне «Семерку», ты скажешь и сядешь напротив стойки
за столом у окна. А в окне-то — смотри — колонны!
арки! лестницы! капители в пять-шесть обхватов!
Можно запросто поболтать с какой-нибудь кариатидой!
Пиво, желтое, словно под вечный колер фасадов
обжигает горло, и чуть-чуть отдает тиной…
2.
В городе полдень, на заливе стреляет пушка,
облачко дыма пересекает небо строго по диагонали,
ты идешь вдоль домов и читаешь, мусоля дужку:
здесь родился, здесь умер, здесь жил. Здесь ему не дали.
Пять минут вдоль музея искусств, где гогенов «Вереск»,
поворот и — река, блеск и ветер до спазмов в горле.
И трехлетний пацан, вырываясь, несется на левый берег,
пробегая насквозь чью-то жизнь. И картавит: «Моле!»
Вечер в Народном Театре, на подмостках Чехов,
дядя Ваня стоит у окна, он уткнулся в складки
занавески, на столе герань не дает побегов.
И в руке, как всегда, он сжимает ее перчатки.
«Будем жить», говоришь, пробираясь вдоль энных линий,
где-то пахнет рекой, от холодных закатов веки
тяжелеют, по фасадам шарят фары автомобилей
и бредут через мост, матерясь, кто куда человеки.
На вокзале без четверти полночь. Твой поезд отходит ровно.
Пахнут дымом и «Живанши» проводницы в лычках.
Ты стоишь с сигаретой на дальнем конце перрона,
где, как звезды, горят семафоры на дальних смычках.
А потом все качнется и ты вдруг поймешь, что за день
ты устал, и под грохот колодок плывешь, как щепка,
в темноту, вспоминая на ощупь шершавый гранитный камень,
и глядишь, как впадает твой скорый в ночную дельту.
* * *
Квартет Шостаковича, № 13. Поставить на «max».
«В такую погоду…» — «Да что вы опять о погоде!
Я предлагаю за женщин, за дружбу, за нас!»
«И за гражданские астры в родном переходе…»
Квартет Шостаковича, № 14. «Вид из окна…»
«Да что вы, ей-богу, опять о московском пейзаже?
Как там, например, в Калифорнии?» — «Там холода
и курево с водкой на гривенник подорожали».
Квартет Шостаковича, № 15. «Давай, наливай».
«Ну наконец-то! Коньяк?» — «Нет, горячую ванну…»
«Послушайте, как вас, на «Ш»..» — «А потом можно чай»
«Я ухожу» — «Осторожно там, в области Свана».
А все из-за скрипки, которая спелась с альтом!
Ну и климат, конечно, «грачей этих черная стая»…
Под квартет Шостаковича баба бранится с ментом
и гуляют вороны, брезгливо по снегу шагая.
* * *
Sit on my finger, sing in my ear, O littleblood.
Ted Hughes
Нынче утром я узнал о смерти великого Тэда Хьюза;
значит, подумал я, и он отправился по дренажной вене
Хэмбора. На моем столе стоит непочатая бутылка узо.
Почему? потому что рифма для меня все равно важнее.
Ночью выпал первый снег, и на кухне светло и зябко,
босиком не выйдешь, изо всех щелей так и тянет стужей.
И пока я копаюсь на полке, теплый кофейный запах
делит мир на тот, что внутри и на тот, что всегда снаружи.
«Майский вечер на Холдернесс» Хьюза — вот это чтиво
утром в стужу, да еще после известий о кончине Тэда!
у него там река, расширяясь, несет всякий хлам к заливу,
у меня — три стены, а на четвертой что-то вроде рассвета.
Что, скажи, помогли тебе твой Расин или враль Овидий?
Вот и мне, по всему видать, ты ничем уже не поможешь.
У тебя там совы, щуки и на белой бумаге след, лисий.
У меня до апреля зима, да и после — мороз по коже.
Но, забравшись под одеяло, я засыпаю и вижу лето,
пыльное и высокое, словно крышка платяного шкафа.
Солнце ворочается в пруду и еще не кончилось детство.
И мерцает сквозь сон крапчатая спина карпа
* * *
Быть может, юноша веселый
в грядущем скажет обо мне.
Шестьсот двенадцать, два нуля.
«Простите, можно Александра?»
В прихожей шелк и соболя,
и горький запах кориандра.
«Желтеет зимний Петербург!»
(зачеркнуто четыре раза).
«Сырой туман вползает в грудь.
И не дождешься Фортинбраса».
А за окном плывут дымки
и снег хрустит как сторублевка.
Идут вдоль Пряжки мужики.
У них сегодня забастовка.
А тут в спиртовке огонек,
зеленый штоф на занавесках.
«Давай чаёвничать, дружок,
И засыпать в глубоких креслах».
Какой ему приснился сон?
Февральский снег на черных шпалах?
Гремит в прихожей телефон,
но пусто в этих темных залах.
Закройте двери в кабинет!
Там на столе щенка забыли.
«Весь мир — Варшава. Смысла нет».
И толстый слой холодной пыли.
* * *
Л. К.
На фоне моря белый венский стул
и ты — в пейзаже времени упадка
вечерних волн. Рельеф сведенных скул.
И детская песочная лопатка.
Когда ты здесь, то красное вино
идет вдвойне, и горько пахнет солью.
Когда ты здесь, мне все разрешено.
И пляж изъеден солнцем, словно молью.
Закат на море! классика времен
трагедии. И молча глядя в точку
я вижу не тебя, но цвет — и в нем
твой силуэт. И я не ставлю точку
* * *
А.В.
Ты живешь в тупике у Казанского, скажем, вокзала.
Из окна — сто дорог, но тебе их, конечно же, мало.
Ты считаешь ворон и дойдя до полсотни наружу
собираешься выйти. Твой голос охрип. Ты простужен.
На дворе три старухи с вязаньем, конечно не в креслах.
Рассуждают о муках похмелья, а вовсе не крестных.
На стене, что ни цвет, то должно быть сам Фиораванти
и ты шествуешь мимо купить себе к вечеру кьянти.
Ну польстил, ну не кьянти. Скорей всего что-нибудь типа
«Изабеллы», что славно врачует твой комплекс Эдипа.
Помнишь, все эти типы, эдипы, оресты, улиссы, энеи —
парни как на подбор, но, видать, как и мы ротозеи:
упустили Елену, проcрали, прости меня, Трою
и за все поплатились своей же дурной головою.
Так что жизнь в тупике у Казанского, скажем, вокзала
ну не рай. Ну и что. Только рая нам здесь не хватало..
* * *
написать бы про город, мой город, которого нет,
про ладони твоих площадей в голубиных наколках,
написать бы про то, как бежит под ногами проспект,
и кремлевские звезды горят на рубиновых ёлках,
написать бы про город, мой город, где пахнет хурмой,
и кабинки под вечер, как ртуть, поднимаются в шахтах,
вам какой, мне последний, и чтобы всю ночь за стеной
радиола мне пела о летчиках и космонавтах,
написать бы про город, мой город под розовым льдом
с леденцами твоих куполов, пересыпанных снегом,
я твои переулки разглажу, как фантик, ногтем
и пройдусь до кольца незнакомым тебе человеком,
это луковый спас над бульваром, и книжный развал,
где слова на твоих корешках я читал как молитву,
это машенька в мягкой обложке, метель, котлован,
и поддатый казах за лотком открывает поллитру,
наливает и пьет, отвернувшись к великой стене,
за собрание всех сочинений в холодном подъезде,
и уходит, качаясь, в мой город, которого нет,
рукавом собирая побелку вечерних созвездий,
и сидит он на складе, и пьет он всю ночь свой агдам,
а потом засыпает на книгах великих народов,
и во сне перед ним уплывают на юг поезда,
волоча за собой километры порожних вагонов.
Camden Town
В.П. и D.W.
Давным-давно, в те времена, когда
в крови бежала кровь, а не вода,
(и даже не крепленое вино):
давным-давно, давным-давно, давным-давно,
когда был жив отец и мать в субботу
готовила рассольник и пельмени —
так вот, давным-давно, в четвертом классе,
я выменял у Голубева Ромки
на серию болгарских марок флоры
журнальчик «Англия» на русском языке
и шел домой, зажав портфель в руке.
А дома я тайком от всех забрался
в чулан, где мы хранили раскладушку,
и там, среди поношенной одежды,
открыл портфель и вытащил журнал
(тем временем рассольник остывал),
а я смотрел волшебные картинки,
где двухэтажный мост висит над речкой,
и красные гвардейские мундиры,
и черные гвардейские папахи,
забыв, что мне давно пора к столу.
Потом я два часа провел в углу.
Но не Биг Бен и царские кафтаны
я вспоминал, разглядывая стенку
(и даже не рекламу «Кока-колы»),
а мальчика на глянцевой обложке,
в очках на позолоченной цепочке,
и белой отутюженной рубашке
и черных лакированных ботинках,
который у решетки с вензелями
стоял и наблюдал, как старый негр
рисует на заплеванном асфальте
у ног прохожих свой автопортрет.
С тех пор прошло примерно двадцать лет.
И вот я в Лондоне — зеваю в галереях,
брожу по кабакам и магазинам,
и как-то утром черт меня заносит
на Camden Town, где у них толкучка,
и там, среди поношенной одежды,
на набережной старого канала,
у бабы в синих стеклах за копейки
я покупаю черные ботинки
и тут же, у решетки с вензелями
завязываю толстые шнурки.
И вдруг — провал, и сердце от тоски
сжимается, и все вокруг плывет,
и что-то про журнальчик и мундиры
мелькает в голове, и про рассольник —
а рядом на заплеванном асфальте,
все тот же старый негр в тюбетейке
рисует разноцветными мелками
у ног прохожих свой автопортрет
и лондонское небо над решеткой
совсем как на картинах у Констебля
а может быть, у Тернера, клубится.
Я бросил фунт в стаканчик из-под Колы,
взял башмаки и двинул вдоль канала,
а после там, где каменные сходни,
я эти самые английские ботинки
(из бычьей кожи, с толстыми шнурками)
поставил на воду, которая покорно
их понесла куда-то в Копенгаген,
а сам пошел, пути не разбирая,
один в толпе из голубых сорочек,
и целый день по городу шатался.
И вот под вечер, сидя на холме
какого-то классического парка
с бутылкой пива, черного как деготь,
я два часа смотрел на этот город,
похожий на жестянку со шпинатом,
но видел не громадины Ист Энда
и не ночной колпак Святого Павла,
а мальчика с портфелем из клеёнки,
который на Сиреневом бульваре
уходит от меня все эти годы,
заваленные корками граната
и фантиками тех времен, когда
в крови бежала кровь, а не вода,
(и даже не крепленое вино).
Давным-давно. Давным-давно.
Давным-давно.
«ТБИЛИСУРИ»
— Помнишь маленького Мамедика?
— Помню.
— Он умер.
Из старого анекдота
1.
В розовом котловане западного Тбилиси,
на задах проспекта имени Важы Пшавелы
я сидел на веранде, жрал жареные каштаны
и под нос напевал старую грузинскую песню:
«Чемо цицинатела, даприндав нела нела,
шенма шорит наатебам, дамцвада да манела…»
…………………………………………………………………
«Послушай, как там дальше, я забыл?
что стало в этот вечер с мотыльками?
чем кончилась их ветреная связь,
когда она была?» —
«Она спала,
когда он улетел к себе на север
и больше никогда ее не видел» —
«Я так и знал!..
и вообще, давно хотел заметить:
печальные вы тут поёте песни…» —
«Запомни: в Грузии печальных песен нет…» —
«Но разве Пушкин…» — «…кажутся такими,
поскольку ничего под этим небом
бесследно не проходит» — «Даже я?» —
каштан упал и медленно катился —
«Конечно» — «Я не верю» — «Сам увидишь.
И вообще, давно хотел заметить:
оставил бы ты Пушкина в покое».
2.
Мы жили с ним в большом кирпичном доме,
который он купил совсем недавно:
сидели вечерами на веранде,
увитой, как положено, плющом
и виноградом, в сумраке курили,
гоняли чай и что-то обсуждали.
Печальный тамада и пересмешник,
он говорил мне о грузинских рифмах,
я спрашивал его о местных девках,
но шел в постель один, и долго слушал,
как нам на крышу грецкие орехи,
срываясь, падали — и с грохотом катились,
а он еще болтал по телефону
и я сквозь сон на старенькой кушетке
ловил уже знакомые слова:
диди мадлобт, шэ чаглахо, рогорах ар
и засыпал.
3.
Я просыпался за полдень. В окошке
сквозь листья королька мелькали блики,
журчал водой сортир (что означало
наличие воды) — и пахло хлебом,
который выпекали у соседей,
а может, хачапурами.
И снова
садились мы на палубе, остатки
цейлонского закусывая сыром
и влажными орехами с земли,
а ровно в два часа скрипели болты
и в гости к нам Ладо Багратиони,
(последний внук грузинского царя
и просто бомж, просравший все на свете),
являлся на халяву покурить
и пообедать.
4.
Прошла уже неделя с той поры,
как я приехал в Грузию. Неделя
как я сидел на каменной веранде
и жрал каштаны, ожидая чуда.
Но вместо чуда царский внук Ладо
в ирландских кабаках на Чавчавадзе
учил меня дешевому нацизму,
а ночью, просадив остатки денег
в каком-то казино, мы возвращались
и вновь садились в креслах на веранде,
увитой, как положено, плющом
и виноградом. …Тлели папиросы,
транзистор пел про снежные заносы,
и дым летел сквозь радиопомехи
к зеленым звездам, крупным, как орехи.
И растворялся.
5.
Итак, прошла неделя с той поры
как я приехал в Грузию. Неделя
как мы на Руставели что ни вечер
тащились из Багеби на прогулку.
Сверкали на проспекте рестораны,
китайские фонарики светились
в каштанах итальянским изумрудом
и было что-то римское в тепле
осенних площадей, кафе и баров,
А мимо нас носатые подростки
под ручку шли, и черные грузинки
кивали мне на фоне заведений,
и старые мужчины в темном твиде
седой щетиной терлись друг о друга.
Какие-то художники в салонах
нам подавали влажные ладони,
сбавляя на картину «Мой чочори»,
и «Банщика» в семейных панталонах.
Короче, на проспекте Руставели
нам каждый встречный был и друг, и сват.
И говорили в спину мне: «Послушай, брат!
Постой!»
6.
И вот в последний вечер, накануне
Покрова дня, что празднуют в Тбилиси
с печальным предвкушением разлуки,
мы с ним зашли в кафе на Руставели,
где оперный театр с куполами
и заказали сладкий «Тбилисури»
за столиком у пыльного окошка.
«А что Майдан — мы были на Майдане?» —
спросил я после первого бокала,
разглядывая старый календарь,
где улица, ведущая под гору
завалена старинными коврами.
«А разве нет?» — «Не помню» — «Ну тогда
считай, что ты еще в Тбилиси не был».
«И что такое этот твой Майдан?»
«Майдан? Майдан… Узилище, подбрюшье,
старинная шкатулка с потрохами.
Здесь триста лет с армянами на пару
евреи торговали всем на свете
и в синагогах было да мечетях
полным полно купеческого люду,
а нынче грязь да желтые заборы…
Иди за мной, ты сам сейчас увидишь.
Я познакомлю с Эдиком, который
всем заправляет в этих палестинах» —
«Он что, бандит?» — «Ара, зачем бандит?
Азербайджанец. Держит на Майдане
свой магазин старинного тряпья
и собирает подати в округе,
(как это делал до него другой).
Что говорить? Давай, иди за мной!
Скорей!»
7.
…мощеный переулок в тополях
нас вел среди облупленных комодов
грузинского модерна вниз, под горку
в районе Сололаки. За Курой
вставала, как чертеж с листа, Метехи,
а с этой стороны лежала площадь,
обсаженная пыльными стволами,
которую без карты не заметишь,
и в воздухе отчетливо, как в школе,
воняло серой.
8.
«Смотри-ка, ну!» — он ткнул налево пальцем
и я увидел низенький домишко
с верандой по периметру фасада,
где старое цветастое тряпье
висело тут и там на желтых стенах.
«Ара, пошли, — зайдем к Эльдару в гости».
«Он, что же, ждет нас?» —
«Слушай, здесь в Тбилиси
со мной тебе любая дверь открыта».
«И эта тоже?» — «Да, и эта тоже.
Гомар джоба, Эльдар, рогорах ар?»
И я, вдыхая серный перегар,
зашел под крышу.
9.
«Шени деда мовтхан, ше чаглахо!
боди вико, набичваро! Ше трако!
Ше бозо! ше хлео! ше мутело!
Пидарастис газдило!» —
прижав к щеке пригоршню с телефоном
он крыл кого-то матом прямо в трубку
и пот блестел на лбу под козырьком
его бейсбольной кепки.
«Может мы
не вовремя?» — я дернул за рукав,
но Эдик уже выключил мобилу —
«Котэ, рогорах ар!» — они обнялись
и мы втроем уселись под коврами,
похожими на карточный
рисунок.
Он тут же стал рассказывать о чем-то,
ругаясь и грозя кому-то пальцем,
и спутник мой в ответ печально цокал,
а я сидел и слушал как шумела
над головой столетняя помела
с горы Давида.
10.
«Ты понял, что случилось?» — наконец
он вспомнил обо мне и повернулся.
В ответ я, как дурак, пожал плечами —
«Подумать только, эти пидарасы
чуть Эдика недавно не убили!»
Я посмотрел на Эдика, который
немедленно во все лицо расплылся
в засахаренной, как безе, улыбке
и показал мне шрам над левым ухом,
сожженный по краям слоями йода.
«Аллах — спаситель моего народа!»
И кепку натянул.
11.
История, которая случилась,
была проста: Эльдар два дня назад
единственную дочку выдал замуж
и весь Майдан, как водится на свадьбах,
гулял всю ночь.
А утром на участок,
где строился соседский дом под крышу,
пришла бригада и взялась за дело.
Продрав глаза, Эльдар в одних трусах
пошел их крыть с порога крупным матом
и все бы ничего,
да на беду случился тут Муса,
(пацан на побегушках при конторе),
и черт мальчишку дернул на родном —
не на грузинском, на азербайджанском —
хозяина окликнуть.
Те, поняв,
что их послал по маме грязный азер
спустились, как мартышки, со стропил
и тут же, на пороге, разводным
ключом Эльдару въехали в затылок,
а после, успокоившись, вернулись
к себе на стройку.
Но не тут-то было.
Представьте, что на эдиковы крики
из всех щелей Майдана, словно крысы,
сбегается орава оборванцев
в засаленном спортивном трикотаже
и этих бестолковых работяг
до полусмерти пиздит в переулках,
а после также быстро исчезает,
и только Эдик с треснувшей башкой
лежит один, как Иов, у стены.
Он ждет, когда его найдут менты
и громко причитает.
12.
«Но разве этих самых работяг…» —
«…их нанимали в селах, где дешевле,
поэтому, конечно же, никто
из них не знал, кого…» —
«Дорогие гости!
Прошу, прошу ко мне в мой дом! Муса,
подай нам в лавку чай, лаваш и фрукты» —
«И папиросы!» —
«Да, и папиросы».
Тут юноша возник в дверном проеме
и глаз не поднимая на Эльдара
о чем-то быстро с ним заговорил,
кивая подбородком на Метехи
и на карман.
«Я все сказал, Муса» —
отрезал тот. «И не забудь бензин!»
Прошу вас, господа, в мой магазин
«Мамед-Заде!»
14.
Он отодвинул полог на стене
и мы спустились вниз, где пахло медью,
дубленой кожей, и какой-то снедью,
и сыростью.
…На глинобитных стенах
поблекшие портреты Руставели
и старые эстампы Ататюрка
висели вперемешку с образами.
Лежали на скамьях папахи, латы,
монисто и бухарские халаты,
чернильницы и царские погоны,
афиши Бурлюка и ремингтоны,
журналы «ARS», «Медея», «Орион»,
испуганный и пыльный патефон,
но главное — ковры. Ковры!
Вдоль стен,
как русские блины, неровной стопкой
лежали домотканые рулоны
старинных мастеров ценой в две тыщи,
а может быть, и более,
долларов.
Здесь было все: накидки, покрывала,
килимы для невест и челноков,
цветастые чехлы от сундуков,
дерюги и настенные ковры
турецких мастеров из Анкары
и даже гобелен «Товарищ Сталин
приветствует рабочих Цинандали
на празднике Труда»
15.
Тем временем тот юноша, Муса,
принес лимон и чай, лаваш и сахар.
На столик мозаичный папиросы
легли — и вот уже по кругу
пошел косяк, и наши голоса,
приглушенные стопками килимов,
со сладким дымом наверх поднимались
и где-то там, под потолком, мешались,
и затухали…
16.
…«Кавказ — ковер: он сшит из лоскутов,
и не было прочней ковра и краше
во все века на всем восточном свете!» —
втолковывал мне между делом Эдик.
«И что же стало нынче с этим чудом?» —
«Ковер давно пошел на лоскуты!
от старого Кавказа, что осталось,
осталось здесь, у Эдика в подвале,
где лучшие во всем восточном мире
ковры хранят легенды о былом.
Муса! Ты где? Достань-ка нам ковер
да расстели!»…
16.
…«Вот это цвет! Смотри-ка, что за цвет!» —
«Кармин?» — «Кармин! Из самок кошенили!» —
Да что кармин! Вот персиковый лист!
дрок, резеда и грецкие орехи,
сок шелковицы, липа, львиный зев,
лишайник, целомудренник и мята —
все в дело шло у старых мастеров.
Муса! Ты где? Готов ли чай?» —
«Готов…»
17.
…Я докурил, поставил чашку с чаем,
снял туфли и улегся на колючий
узор ковра, где лозы винограда
сплетались в головах с листом граната,
и по рисунку медленно рукой
провел, потом еще, и
— боже мой! —
мне показалось, что узор ковровый
ожил в руках, что листья винограда
зашевелились и зашелестели,
а темная каморка на Майдане
заполнилась кармином и лазурью,
и поплыла как маленький фонарик,
качаясь на волнах грузинской речи
туда, где холмы Грузии, сливаясь,
и небо в крупных и зеленых звездах —
и растворилась…
18.
«Теперь ты понимаешь, почему
невеста накануне жениху
дарила не колечко, а ковер…»
«…узор души, любви моей узор…»
«Как мотылек в прозрачной паутине,
ты потерял покой, но взял взамен…»
«Узор души, любви прозрачный плен
и пыл…»
19.
…«Вот так всегда у них, азербайджанцев:
едят на серебре, а гадят в грязном
сортире, из дерьма не вылезая» —
он хлопнул дверью черного сарая,
смердевшего азотом за версту,
два раза повернул латунный ключик
и мы вернулись в дом, где наш хозяин
помятые купюры за конторкой
считал, стирая пот со лба рукой.
Потом на посошок пошел второй —
отборных шишек из Афганистана —
он что-то говорил нам из Корана,
потом в дверях, как водится, прощались,
менялись адресами, улыбались,
и только заполночь на свежий воздух вышли,
и дух перевели.
А на дворе!
блестела словно соль на топоре
цепочка звезд, качался строй стволов,
в окошке бился рой из мотыльков
и лопасти теней месили площадь
как тесто…
20.
«…чей слышу голос я над головой?
и что за тени бродят меж звездами?» —
«то грешники с пустыми бурдюками
скитаются по небу после смерти
и нет покоя душам их несчастным,
пока вина из праведных кувшинов
не соберут в пустые бурдюки…»
«…о том, как пляшут в небе огоньки,
и как тепло становится внутри…»
«…смотри и слушай, слушай и смотри…»
21.
…по улице, где мокрая брусчатка
блестела, словно рыба на поддоне,
мы шли куда-то в гору, и веранды
вставали, зажигая перед нами
бумажные фонарики под крышей.
Мы заходили в темные подъезды,
скрипели половицами щербатых
и узких, как запястье, переходов,
пропахших керосином и петрушкой,
где черные горшки и сковородки,
и никого на раскаленных кухнях,
и лишь подростки в черном трикотаже
играют в подкидного при свечах,
а больше ни одной живой души
во всем Тбилиси!
22.
…и снова мы куда-то шли под горку,
а после поднимались по ступенькам
и старый банщик в синих панталонах
бросал нам полотенце и сандалии
и мы, раздевшись, ощупью входили
под своды старых бань, в туман и слякоть,
где серые мужские силуэты
с миндальными плодами гениталий
бродили, словно тени, меж колонн
и пахла серой липкая водица.
Я на топчан из мрамора взбирался
и в хлопьях пара мокрое лицо
с огромными усами надо мной
склонялось, и по телу шуровала
не знавшая стыда мочалка с мылом,
а я лежал и видел сквозь окошко
под куполом старинной серной бани,
что ночь идет на убыль и что месяц
белеет словно ломтик сулугуни
на синем блюдце неба над Тбилиси,
как на картинке.
23.
Вернулись мы под утро.
На веранде
блестел кухонный стол, и две улитки,
пересекали мокрую клеенку
в ту сторону, где были крошки хлеба.
Отгрохотал железный умывальник,
и вещи были сложены в пакеты,
когда в последний раз мы с ним уселись
на каменной веранде в старых креслах
и молча пили чай.
В шестом часу
распугивая розовых скворцов
к воротам подкатил «Москвич» помятый,
в багажник были брошены пакеты
и мы помчались вниз по серпантину
над котлованом спящего Тбилиси,
где черная стамеска Церетели
мелькнула под ногами — и исчезла
за поворотом.
24.
…А два часа спустя в пустом салоне,
когда «Ту-104» дал прощальный
в зеленом небе круг над котлованом,
я вдруг в иллюминаторе увидел
огромный столб коричневого дыма,
который поднимался над Тбилиси.
«Скажите, что за дым в такое время?» —
спросил я стюардессу в черном платье.
«Пожар» — «Пожар?!» — «Сказали, этой ночью
сгорела чья-то лавка на Майдане» —
«Не может быть!» — «Окурок или лампа.
У нас такое часто тут бывает,
особенно, когда живем без света».
Она поставила стакан и посмотрела
в иллюминатор.
«Что же, что же, что же…» —
«Да ничего. Хозяин этой лавки
был найден мертвым в собственном сортире.
Как он туда попал и что там делал
в шестом часу — никто пока не знает,
но дверь была снаружи заперта,
а стало быть…» —
«Там был еще Муса!
Пацан на побегушках при конторе!
Что стало с ним?» —
«Какой еще пацан?» —
она поправила на платье синий галстук
и строго на меня смотрела сверху.
«Нет. Ничего. Спасибо. Нет. Простите» —
«Вы курите?» — «Нет-нет» — «Тогда курите».
…………………………………………………………………………..
Уважаемые пассажиры!
Наш самолет набрал необходимую высоту.
Теперь вы можете курить и пользоваться туалетом.
Ожидаемое прибытие в аэропорт Внуково —
девять часов двадцать минут по московскому времени.
В Москве дождь, средняя температура ноль минус один градус.
За время нашего полета вам предложат горячий завтрак,
а также широкий выбор товаров беспошлинной торговли: украшения и сувениры, алкогольные напитки и сигареты.
Спасибо за внимание».
…………………………………………………………………………..
25.
А я сидел один в хвосте салона
и глядя на заснеженные склоны
не знал, что делать: радоваться? плакать?
жалеть и если да — о чем? кого?
и что за роль во всем этом спектакле
(а может быть во всем этом узоре?)
была моей? и вообще — была?
Тем временем пропал из-под крыла
хребет Кавказа, плоская равнина
раскинулась внизу до горизонта,
размытого осенними дождями,
и было как-то странно на душе —
легко? прозрачно? холодно? печально?
как в песенке, которую когда-то
сто лет назад в какой-то прошлой жизни
я напевал над розовым Тбилиси,
грузинских слов почти не разбирая:
«Чемо цицинатела, даприндав нела нела,
шенма шорит наатебам, дамцвада да манела…»
Ноябрь, 2000 — апрель, 2001
Рейс 0.40
(Песенка для В.В.)
На Щелковском вокзале,
где мы с тобой встречали
автобусы из Мекки,
Хайфы и Хохломы,
идет в разлив двойное
тверское бочковое
и жарят чебуреки
армянские хохлы.
Здесь, отгуляв по полной,
закусывает воблой
на посошок «Смирновку»
владимирский амбал
и две седых мочалки
из Верхней Перепалки
поднимут за обновку
шипучее «Кристалл».
Вот нищий дядя Толик
присел за крайний столик
и корочку от сыра
зажал в сухой горсти.
А рядом два майора
из курского дозора
роняют честь мундира
в мясное ассорти…
…А после те и эти
(их сумки, жены, дети)
разъедутся по миру,
но лишь последний рейс,
который отбывает
в 0.40, провожает
тот нищий дядя Толик,
отдав по форме честь.
…………………………………
Я жил когда-то рядом.
Здесь расщеплял свой атом
Щелчок на перекрестке
и помнил мою тень,
и жизнь, хоть плач, хоть смейся,
казалась мне тем рейсом
в один конец и датой,
открытой каждый день.
Теперь другое дело:
что было — отболело,
и мне цыганка пела,
а жизнь, как ни крути,
опять сдает по новой,
мой интерес — червовый,
мой глазомер — вокзальный,
моя судьба — в пути.