Алексей Колесниченко
Поэт, филолог, преподаватель. Родился в Воронежской области. Стихи пишет с 13 лет. Посещал поэтическую секцию при Союзе писателей России, печатался в журнале «Подъём», альманахах «День поэзии», «Стихоборье» и др. Лауреат фестивалей авторской песни и поэзии «Рамонский родник», «Парус надежды», «Песня Булата».
В 2013 году переехал в Москву. Выпустил авторский сборник стихов «Очевидность» совместно с К. Запесоцкой. Заканчивает магистерскую программу «Литературное мастерство» в НИУ ВШЭ. Активно выступает на московских литературных площадках, был членом жюри Чемпионата поэзии им. Маяковского, фестивалей «Вега Весны» и «Русские рифмы».
С доверием к глаголу
(О книге: Игорь Булатовский. Северная ходьба: Три книги / предисл. А. Житенёва. — М.: Новое литературное обозрение, 2019)
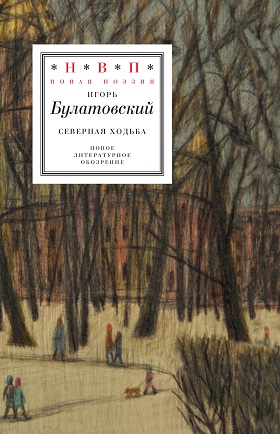 I.
I.
«Северная ходьба»
Искать истоки, проводить аналогии, разбирать конструкцию интертекста, словом, заниматься тем, чем привыкли заниматься компаративный анализ и контекстология, — на мой взгляд, занятие чрезвычайно неблагодарное, когда речь идёт о поэтике Игоря Булатовского. В этом году увидел свет сборник «Северная ходьба», куда вошли три книги поэта, написанные в 2013—2017 годах: «Северная ходьба», «Родина», «Немного не так». Поэт «слова как такового» (по словам Валерия Шубинского), Булатовский тем и интересен, что собственная логика его произведений, набор их структурных принципов, говорит о них больше, чем любая рецензия, поскольку каждое стихотворение Булатовского в самом себе содержит собственную методологию и аналитический аппарат. От объясняющего
Свет есть, и звук, но только нет ни слова
сказать, какой там свет, и цвет, и звук
всё начинают засветло, всё снова,
во тьме ещё, с короткого тук-тук…
до манифестарного
Просто разговор, а не разговор-
ы одно, закадычное,
простое, как пот из пор… —
поэт сам задаёт способ отношения к своим стихам, а следовательно, и понимания основ своего метода и, не побоимся сказать, функции поэта в реализации этого метода. Отношение должно быть лёгким, как к любой иной форме речи. Метод — попытка через набор лексико-грамматических остранений, через демонстрацию того, что формальные правила речи — лишь конструкт, возродить ту естественность речи, которая возможна до того, как эти правила начинают определять, структурировать и ограничивать человеческое мышление. Поэт здесь — проводник назад и вглубь, в детское отношение к слову и письму, когда перенос одной «ы» на следующую строку возможен не потому, что поэт осознаёт свободу использования приёма, но потому, что ребёнок ещё не впитал в себя алогичное формальное «нельзя»:
Какие черти детские, кривые
качают эту лодочку-печаль!
Кривизна этих «детских чертей» выражается и в вышеозначенной свободе слова от условностей, и в чрезвычайной подвижности силлабо-тонической формы Булатовского, которую часто отмечают критики. И кривизна эта, безусловно, намеренная, даже несколько нагловатая:
Подошвы шаркают по песку.
Ребенок заводит плач. «Тих-тих», — ему говорят.
Голубок прилёг на песке, в строку
укладывается всё подряд.
Но эта кривизна, и эта наглость — не авагнардный неопримитивизм, цель которого — деконструкция ради поиска важного и сущностного в искусстве, а цитата из детства, из эпохи вопросов, которым нет конца, потому что сколько ни узнавай — картинка останется дробной. И остаётся только
…ткнуться вниз горячим лбом,
не думая о вычурности жеста.
Лишь черновой подстрочностью его
смутясь немного и гордясь немного,
прозрачное глотая вещество
начального бессмысленного слога.
Бессмысленность слога — та категориальная единица, которая даёт нам право на лёгкость отношения, а поэту — право на гордость и смущение.
Если попытаться найти в «Северной ходьбе» и «Немного не так» (исключая сильно отличающуюся по форме «Родину» ради методологической точности) составляющую нарратива, выраженную в развёртывании и умножении смысла по ходу чтения книги, то сформулировать её можно так: это систематизация опыта путём десистематизации речи. Переставьте части этой фразы, разделенной «путём», в любом порядке — определение останется целостным, как остаются целостными стихотворения Булатовского, несмотря на их принципиальную разомкнутость.
Третьей по частотности словоупотребления темой после «детства» и «чертей» является телесность — как источник речи, причём не только устной, но и письменной:
Синица допоёт с листа
Листа сенильное мясцо,
и станет кость листа чиста —
его последнее лицо.
А спинка сохранит следы
от клюва и от коготков —
мурашки Брайля, «бр-р-р» воды,
глаза холодных пузырьков.
Физиология речи, её природность и животность, выступает у Булатовского в том же лагере, что и детские её признаки: поэт манифестирует необходимость безусловности. В этом можно найти даже некоторый политический смысл: Булатовский будто ищет выход из мира лингвистического детерминизма, из посттоталитарного травмированного мира, где гипотеза Сепира-Уорфа работала как механизм укрепления власти. Авангардисты, столкнувшись с этой проблемой, но ещё не до конца её осознавая, пошли путём разрушения речи искусства — и создали алогизм и заумь. Их преемники-лианозовцы, осознав, что речь себя дискредитировала, пошли путём освобождения её от внешнего и наносного — и создали конкретизм, который в некоторых своих формах, например, в «предметниках» Михаила Соковнина, тоже довольно физиологичен. Булатовский же предлагает не конечный результат, но путь, путь десакрализации правил языка, а затем и самого языка. Мышление должно стать не продуктом речи, но признаком телесного существования, чтобы в пределе произошло избавление от этого посредничества между человеком и миром:
Лай — это хорошо бы!
И всякий прочий скулёж,
и дуракаваляние-хвостомвиляние, чтобы
знали, что он — хороший
без «бы»…
В итоге можно сказать, что главный герой «Северной ходьбы» — это метафизиология, тело речи.
II.
«Родина»
«Родина», цикл из тридцати стихотворений, — это длительный поэтический нарратив, история со всей полнотой драматургии. Нарратор этой истории сильно отличается от редкого, но присутствующего у Булатовского в «Северной ходьбе» и «Немного не так» лирического «Я» — как надёжный рассказчик от ненадёжного. Разница между ними — в модусе взаимодействия с пейзажем: если лирическое «Я» Булатовского стремится растворить мир в себе, вобрать его для речи, то цель нарратора «Родины» — раствориться в мире, быть выбранным речью:
<…> Сейчас осень. В её строку
укладывается всё, даже весна, которой
двадцать семь лет, и скарлатина
листьев этому не мешает.
В этом случае встаёт, однако, вопрос: для чего? Нужно ли это для освобождения от речи — или для освобождения речи от… чего? Впрочем, намёк на ответ в «Родине» тоже присутствует:
…песенка старой глупой печатницы из типографии «На страже
Родины» осталась чистым звуком: ней-ней-ней, ню-ню-ню.
Но сухая кость звука оделась плотью великих еврейских стихов,
которых бабка не знала, и не могла знать, и не смогла бы даже
прочесть.
Здесь происходит сближение этих модусов: звук и речь, кость и плоть, мысль и знание демонстрируют схожесть, но не тождественность, и напряжение, возникающее между этими, не полярными, но всё же разнозаряженными объектами становится внутренней движущей силой цикла.
Визуальная массивность текста «Родины» контрастирует с минималистичностью употребления поэтических приёмов, особенно если сравнивать «Родину» с двумя другими частями книги, «сжимающими» её между собой. Однако организующим принципом цикла становится приём сугубо поэтический — рифма. Она здесь довольно необычна: при чтении возникает ощущение, что она не подобрана, а найдена в общем потоке речи, возникла там стихийно, и её наличие в произведении — лишь демонстрация её естественной частотности: столько-то рифм на каждые полтора дециметра текста. Этим же может объясняться их неоднородность: текст пронизывают рифмы всех видов, от мужской до гипердактилической, точные и приблизительные, ассонансы и консонансы. Текст развивается и разворачивается ими, но, несмотря на то, что они графически помещены в окончания строк, а потому игнорировать их невозможно, они — лишь иллюзия кульминаций, которыми должны бы являться, поскольку ткань рассказываемой истории (и её текстового носителя) однородна:
<…> Сообщение минимальной длины. Прозой,
отрубленной у поэзии за воровство смысла. С доверием к глаголу,
сразу же переходящему к делу. Чтобы не было слишком больно.
Стоит отметить, что в этих строках мы снова сталкиваемся с набором физиологических метафор, с телом речи как биологическим объектом, вступающим в противоречие с властью условности, ибо уголовный закон — такой же конструкт, как закон языка. В последнем же стихотворении цикла происходит разрядка напряжения, однако сказать, кто победил, тело или речь, тело как носитель речи или речь как свойство тела, всё ещё нельзя:
…лучше уж плыть и плыть, доверяя хлору своё всё равно
прекрасное тело, даже если оно отталкивающее или смешное,
благо путь вперёд и путь назад — одно и то же.
III.
«Немного не так»
Третья часть книги будто методологически движется в сторону, обратную первой: от размышлений о чистой речи в пространство литературы. Здесь больше открытых и неспрятанных ссылок, больше цитатности и «поэтичности» в контекстологическом и общекультурном смысле. Сами заголовки стихотворений на это указывают: «Константин Вагинов едет на завод “Светлана”», «Две тени Т.С. Элиота», «Колыбельная для Людвига», «У.Х. Оден. Орфей», «Васе Бородину» и т.д. Здесь множество упоминаний Пушкина, Чехова, Рембо, Моцарта, а также отсылок к Библии, которыми изобилуют и предыдущие части, но здесь, в соседстве с именами, они — явления скорее литературного порядка, чем религиозного или мистического:
это всё погибель эстер эстер
движутся навстречу слова слова
голову твою целовал костёр
золотая голая голова
Это, на мой взгляд, отражение общей для книги тенденции к десакрализации слова. В стихах Булатовского это тройственный процесс: через постулирование разницы между речью поэтической и мистической, через разграничение опыта он приходит к растворению слова сакрального в культурном контексте:
Под фонарями скользить в нору,
бормоча, как пряча во рту бритву:
умру, аще умрев, не умру,
аще умрев, не вомру в молитву.
Здесь часто возникают трёхстрочные и шестистрочные строфы, которые, на фоне преимущества, отданного в книге четырёхстрочным (кроме «Родины», конечно), выглядят словно набор акцентуаций — «сильные» части общего нарратива:
Пускай истечет розоватый сок
метафорой запада в редкий лесок,
пускай на пруду амфибрахий,
стараясь взлететь, бежит по воде, —
победа не в черном словесном труде,
а в белом безлиственном страхе.
Шестистрочники упорядочены невероятно чётко: ритмически, метрически и по типу рифмы первая строка тождественна четвёртой, вторая — пятой, третья — шестой. Однако эта система видна только специально вооружённым глазом, а на первый взгляд стихи выглядят ритмическим салютом, слоговым хаосом, дробью сбивок. И здесь видится соответствие найденной нами тенденции: алмазная точность внутренней структуры используется для манифестации свободы, что, на первый взгляд, кажется оксюмороном в рамках лингвистической относительности, но в общей поэтике Булатовского оказывается гамлетовским «последовательным безумием». Сам поэт высказывается об этом достаточно конкретно:
<…> Поэт
повсюду слышит, как идиот,
все, чему подтверждений нет. —
и это звучит не иронично, не оскорбительно, но как черта, имманентная профессии. Впрочем, пик самоопределения лирического субъекта наступает в стихотворении «не дорога твоя ложка господь стальной». Здесь герой настойчиво обозначает себя в противопоставлении сакральному и мистическому, а следовательно — наличию изначальной, предзаданной цели существования, мышления, слова:
потому что отец мой кривая рта
потому что мать моя пустота
<…>
я дыхание речь ржач сухая кровь
мокрая кровь морок морква морковь
редька тыква баба репа каша душа
я живу киша и умру киша
<…>
я слова слава сила слева справа кругом
а тебе слабо кишка тонка не в подъем
Лирический субъект, не сказать — поэт, последовательно заявляет о принадлежности себя к механизму речи, присваивает себе этот механизм и провозглашает себя победителем речи.
Это соотносится с вышеозначенным движением от природы речи к речи природы. Только в «Немного не так» нарратор осознаёт, что природа не понимает прямых обращений, и стремится к переводу на её язык:
ветер ветер снова йод
тёплый муравьиный яд
воздух что ли снова да
Последняя строка звучит как окончательное принятие того, что избавиться от диктата речи невозможно, однако это не делает движение вглубь, к доречевому восприятию, бессмысленным — как минимум, потому, что это красиво. И, как выясняется, это совершенно не мешает стихам существовать в ряду других стихов, других поэтов, других искусств — «Немного не так» тому доказательство.
В движении от стремления к победе над словом к заключению мира с ним и содержится, на мой взгляд, нарратив всей книги. Ритм же её задается дыханием формы: от строгой силлабо-тоники до верлибра, от нарастания точности рифмы до ее снижения и исчезновения, от сюжетности к бессюжетности — и обратно. Работая в противофазу самой себе, поэтика «Северной ходьбы» наэлектризовывает читателя, но не даёт этому напряжению стать деструктивным, забирая его обратно в себя, примиряя читателя с тем, против чего он готов был говорить — или молчать — строку назад.




